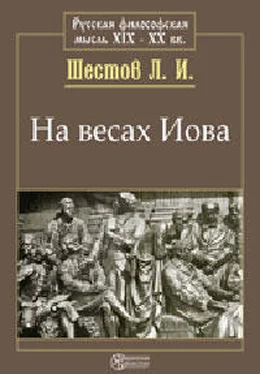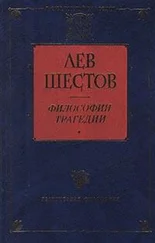VII
Целлер, единственный, кажется, из тех, кто говорил о Плотине, решился сказать о нем, что его философия порывает с традициями эллинства — и что "dem Philosophen das unbedingte Vertrauen zu seinem Denken verloren gegangen" (III 2, 482). [221] У философа пропало безусловное доверие к своему мышлению (нем.).
Но Целлер, по-видимому, не заметил, какое роковое признание скрывается в его словах. Значит, можно доверять, а можно и не доверять мышлению? Значит, разум тоже должен еще оправдаться, предъявить свой Rechtstitel, свой justus titulus? Гуссерль говорит: "wir werden uns nicht zu der Überzeugung entschliessen, es sei psychologisch möglich, was logisch und geometrisch widersinnig ist" (Log. Unt. II. 215). [222] Мы не решимся утверждать, будто психологически возможно то, что логически и геометрически нелепо (нем.).
А меж тем именно то, что логически — нелепо, оказалось, как видно из примера Плотина, психологически, т. е. реально, возможным. Об этом добросовестный Целлер и свидетельствует. Иначе говоря, пределы возможного и невозможного устанавливаются не разумом. Над разумом есть судья и законодатель — и философия, раз она ищет ριζώματα πάντων (корней всего), никак не может оставаться разумной философией — она должна быть επέκεινα νοΰ και νοήσεως. [223] По ту сторону разума и разумения (греч.).
Но как уйти от разума и его власти, как добраться до истинных источников бытия?
Мы помним, что «уйти» от разума Плотин не мог. Ему пришлось δραμειν υπερ την επιστήμη, взлететь над знанием, покинуть ту почву, к которой разум нас приковывает. На рассуждениях и доказательствах не «взлетишь». Все, что хочет быть "выводом из посылок", мешает взлету. Нужно что-то другое, что-то совсем иного порядка, чем доказательства и лежащие в основе доказательств самоочевидности. Нужно ни с чем не сообразующееся, никого не спрашивающее, не оглядывающееся назад дерзновение. Только такое дерзновение, только неизвестно откуда пришедшая вера в себя и свое высшее назначение (me præstantioris sortis esse), вера, пришедшая на смену привитому мудростью смирению, дала Плотину смелость и силы начать свою последнюю и великую борьбу (αγων μέγιστος και εσχατος) с тысячелетней традицией философии. Пока его запуганное, загипнотизированное, по чти парализованное мудростью Я в самоотречении видело свой высший идеал и, чтоб удостоиться похвалы мудрости, подавляло в себе все живые порывы — не плакало, не смеялось, не проклинало, — разум и разумные истины казались вечными и непреодолимыми. Но наступило пробуждение, рассеялись навеянные сном чары — и человек заговорил свободно и властно. Плотин не то что потерял доверие к разуму — он превратил разум в своего слугу и раба.
Истина лежит по ту сторону разума и мышления — это не разрыв с древней философией, как говорил Целлер, это — вызов ей. Это значит, что действительно существующее отнюдь не определяется самоочевидностями разума, что оно ничем не определяется, что оно само все определяет. Область истинно существующего — есть область безграничной свободы, не «разумной» свободы, навязываемой людьми даже Богу, а безграничной, складывающейся из тех своевольных «вдруг», которые у Плотина пришли на смену прежних "по необходимости" (εζ ανάγκης). Когда разум, по требованию Плотина, "отступил назад", открылось, что истинное бытие — не в том, что "в нашей власти", т. е. не в «добре», а в том, что находится за пределами наших возможностей и что утренняя и вечерняя звезда прекрасней умеренности и справедливости. А может быть, или вернее всего, произошло обратное: когда Плотин почувствовал, что созданное нами имеет только условную и относительную ценность, а главная, настоящая ценность — она же и есть истинная реальность — в том, что не нами создано, — тогда наступило «пробуждение»; он постиг, что в возвышенном sub specie æternitatis таились основная ложь и роковое заблуждение человечества. Отрекшись от мудрости, он оторвался от почвы, за которую все так судорожно цепляются. Зачем почва тому, у кого выросли крылья?
Плотин утратил доверие к разуму, т. е. к philosophia vera, к принудительной, принуждающей истине, увидел в разуме, дерзнувшем отречься от Единого, начало зла, возвестил, что душам предстоит великая и последняя борьба. Может ли философия остаться в стороне от этой борьбы, может она по-прежнему искать убежище под сенью морали и успокаиваться на традиционном sub specie æternitatis? Так делали, так делают и сейчас. Гуссерль прав: вместо философии нам предлагают мудрость. Даже Гегель, для которого как будто ничего, кроме объективной истины, не существовало, видел в морали начало философии. Вот что пишет он в своей логике — она же онтология: "Die Zurückweisung vom besonderen endlichen Seyn zum Seyn als solchem ist wie als die erste theoretische so auch sogar praktische Forderung anzusehen… Der Mensch sich zu dieser abstrakten Allgemeinheit erheben soll, in welcher es ihm… gleichgültig sey, ob er sey oder nicht sey, d. i. im endlichen Leben sey oder nicht (denn ein Zustand, bestimmtes Seyn ist gemeint) u. s. w. - selbst, si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinæ". [224] Отсылку от отдельного конечного бытия к бытию как таковому, взятому в его совершенно абстрактной всеобщности, следует рассматривать как самое первое теоретическое и даже практическое требование… Человек должен подняться в своем образе мыслей до такой абстрактной всеобщности, при которой ему… будет безразлично, существует ли он или нет в конечной жизни 844 (ибо имеется в виду некое состояние, определенное бытие) и т. д. Даже si fractus illabatur orbis, impavidum ferient ruinæ [если бы на него обрушился весь мир, он без страха встретил бы смерть под его развалинами (лат.)] (нем.).
Это значит: прежде мораль, после философия. Чтоб «мыслить», нужно отречься от себя, от своего живого существа. Едва ли после всего вышесказанного нужно пояснять, что истина, которая приходит после морали, есть истина не первозданная, а производная, вторичная. Если философ начинает с императива: der Mensch sich zu dieser abstrakten Allgemeinheit erheben soil, [225] Человек должен подняться в своем образе мыслей до такой абстрактной всеобщности (нем.).
— он кончит тем, что подменит онтологию этикой. Вся философия XIX столетия исходила из спинозовского sub specie æternitatis или гегелевского der Mensch sich erheben soll. Откликом на это было явление Ницше в Германии и Достоевского в России. Ницше возвестил или, если хотите, тоже «возопил» свое "по ту сторону добра и зла" и "мораль господ". Когда ему удалось стряхнуть с себя гегеле-спинозовское "человек должен", он, как и Плотин, утратил доверие к разуму, т. е. понял, что философу за своими истинами никак нельзя идти в те места, где математик узнает, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым. Он увидел, что наши синтетические суждения a priori, т. е. те, которые принято считать навеки незыблемыми, есть наиболее ложные суждения. И он бежал, бежал без оглядки от даров разума, точно во исполнение завета Плотина: "бежим в любезное отечество" (I, 6, 8). Бежал он даже от современного христианства, которое, чтобы жить в ладу с разумом, добровольно превратилось в мораль. Он добежал, скажут, до своей blonde Bestie, и это уже — «атавизм». Но разве мы не склонны и в платоновском ανάμνησις'e видеть "атавизм"?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу