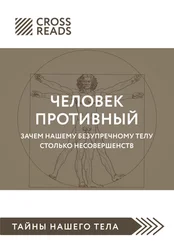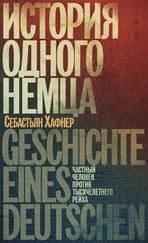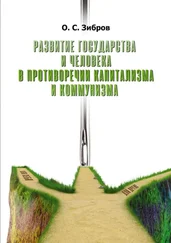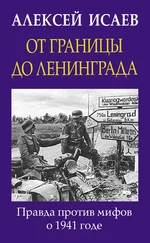Данэм Берроуз - Человек против мифов
Здесь есть возможность читать онлайн «Данэм Берроуз - Человек против мифов» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Человек против мифов
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Человек против мифов: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Человек против мифов»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Человек против мифов — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Человек против мифов», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Вот одна граница, за которую не должно выходить наше планирование. Есть, как я намекнул выше, и другая. Все планы строятся для определенного момента в истории; они релевантны для данного момента и только для него. Когда момент проходит, его сменит другой, которому первоначальный план уже не соответствует: каким бы хитроумным он ни был в целом и в деталях, он повисает в воздухе, бессильный повлиять на ход событий в желаемом направлении. Такова мораль и философия знаменитой удачной фразы о неудачниках: "Слишком мало и слишком поздно".
В своих попытках управлять окружающим миром человеческие существа зажаты поэтому между двумя пределами. Они не должны, с одной стороны, действовать до накопления знания; но, с другой стороны, они должны действовать, пока представляется случай. Пределы эти во все времена были тесными, иногда – отчаянно тесными. Раздвижение этих пределов человеком во имя большего овладения миром составляет, по-моему, самый лучезарный из его триумфов.
ПОЧЕМУ БАЛАНСИРУЮТ БАЛАНСЕРЫ
Теперь мы в состоянии разглядеть, насколько двусмысленно только что разобранное убеждение и как неудовлетворительны его разнообразные, распутанные нами значения. Ни в одном из значений нет безусловной истины, большинство в избытке содержит весь обман, необходимый для умышленного сбивания людей с толку.
Будет, однако, мало просто объяснить путем анализа содержания, в какую глубину заблуждения ведут эти идеи. Нам надо вдобавок дать еще что-то вроде отчета о том, как получается, что определенные люди особенно склонны именно к этим иллюзиям. Здесь было бы соблазнительно – а может быть, и поучительно, – предпринять психологический экскурс в природу отдельных темпераментов. Однако я как-то не обладаю нужными для этого таинственными дарованиями. Во всяком случае, представляется гораздо более полезным делом расставить как заблуждения, так и подверженные им темпераменты по их историческим местам.
Начнем с того факта, что некоторые люди не могут или не хотят занять решительную позицию в социальных и политических вопросах. Или, опять-таки, по какому-то ряду вопросов они пребывают в таком колебании, что обнаруживают отсутствие какой бы то ни было связной всеохватывающей программы. Почему так получается?
Нерешительность в социальных вопросах возникает из-за противоречия между основополагающими убеждениями. Любая социальная теория, придерживаться ли ее сознательно или бессознательно, навязывает определенное число тезисов. Возможно, и даже очень вероятно, что при попытке приложения к конкретной проблеме тезисы начинают противоречить друг другу. Положим, перед нами человек, полный веры в учреждения политической демократии, но не любящий профсоюзы, евреев, негров, иностранцев и всех, кого еще можно добавить к этому печальному списку. Положим теперь, что профсоюзы начинают использовать учреждения политической демократии для того, чтобы провести законодательство о минимальной почасовой зарплате, добиться пособий по безработице, возрастных пенсий и так далее. Наш друг (увы, не воображаемый) разрывается между своей верой в демократию и своей нелюбовью к тред-юнионизму. Если продолжать поддержку политической демократии, придется принять неуклонное упрочение профсоюзов, если держаться нелюбви к тред-юнионизму, придется с такой же неуклонностью отказаться от своей веры в демократические учреждения.
Начинается период колебаний. Наш друг временами поддерживает то демократические меры, то антирабочие ограничения. Временами он вообще не хочет принимать никаких решений. С него хватит: мир стал слишком запутанным, слишком полным эгоизма и распри. Прежняя ясность, прежняя самопожертвенность улетучились. Он оставляет роль болтающейся по волнам пробки; он становится балансером и олимпийцем.
Хоть он теперь и над битвой, но все еще страдает от пережитого крушения. Полный печали и сердитых идеалов, он бранит современников за их приземленность. Он обличает даже вождей, за которыми некогда шел и которых, может быть, до сих пор рассматривает как лучших среди дурной компании. На каждую сделанную ими в ходе борьбы тактическую уступку он нападает как на предательство всего дела. Почему они не хотят слушать? Почему не видят того, что так ясно ему с высоты? "О tempora, о mores", – вздыхает он, не помня больше ничего из Цицерона.
Наш друг в этом моем описании – обобщенный образ, но он не выдумка. Он представляет собой даже целое направление мысли, простирающееся из семнадцатого века вплоть до двадцатого, – так называемую либеральную традицию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Человек против мифов»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Человек против мифов» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Человек против мифов» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

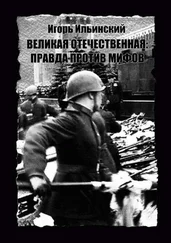
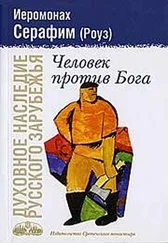

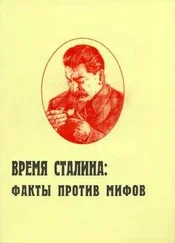
![Йаэль Адлер - Человек Противный [Зачем нашему безупречному телу столько несовершенств]](/books/405014/jael-adler-chelovek-protivnyj-zachem-nashemu-bezupr-thumb.webp)
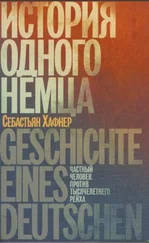
![Себастьян Хаффнер - История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха [требуется вычитка]](/books/425600/sebastyan-haffner-istoriya-odnogo-nemca-chastnyj-che-thumb.webp)