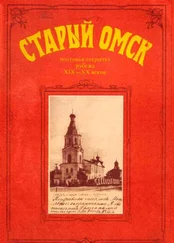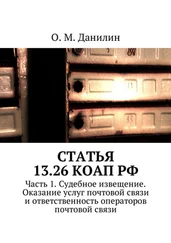То, что я (вложил) в тебя (в себя), и то, что я никогда не заберу вновь, так как я никогда ничего не начинаю снова; я думаю об этом охотнике за вознаграждениями, который привязывает тело «разыскиваемого» (Wanted) позади своей лошади, чтобы прикончить его, потом он везет труп к шерифу, останавливаясь в каждом салуне. Вот что для нас Запад.
Мне сообщили о ее смерти, я вошел в дом, Жозефина Бейкер лежала в глубине комнаты. Все собралось вокруг ее рта, очевидно, это рак, который раздул ее губы и вверг в некое ужасное молчание. Затем, с момента моего прихода, после моих первых шагов к ней, все изменилось, она начала говорить. Я больше не знаю, было ли это только в момент пробуждения, когда какое-то странное восхищение все перевернуло. У меня тысячи гипотез, я расскажу тебе.
Я не оставлю эту записку на секретере, чтобы убедить или защитить тебя, но только для того, чтобы сказать тебе, что, ничего не принимая, я принимаю твое «определение». Оно всегда остается для меня таинственным, знай это, проникнутым тайной (однажды ты наберешься смелости написать мне его, и это будет последним ударом, я не узнаю ничего нового, но все откроется из того, что мы прожили отрицательного), и главное — оно остается для меня анонимным. Это не ты «определяешь» себя таким образом. Ты становишься кем-то определяющим тебя, но тот, кто определяет тебя, или тот, кто сам определяется, это не ты. Ты, мы любим друг друга, и эта очевидность ослепляет тебя. Даже сегодня, и для меня тоже это слишком очевидно. Но я принимаю это.
Наш единственный шанс обрести бессмертие, сейчас, но каким путем, это значит все сжечь, чтобы вернуться к первому нашему желанию. О каком бы «бессмертии» ни шла речь, это наш единственный шанс, я хочу сказать, общий. Я хочу начать все сначала. Сжигаем всё? это идея сегодняшнего утра, когда ты вернешься, я поговорю с тобой об этом — самым техническим образом в мире.
Январь 1979 года. И вот возвращение из госпиталя. Вся семья здесь. Очевидно, не я один об этом скорблю, я не знаю, что происходит, врачи ничего не говорят. Они ждут новых анализов, но у меня такое впечатление, что медсестра знала или предчувствовала что-то, что не могла сказать. Как если бы все они знали то, что должно случиться. Жутковато, я хотел бы больше никогда не возвращаться сюда, я оставляю здесь все свои силы.
Возвышенное небытие, ты знаешь, что оно хранит все. «Корреспонденция» будет лучше уничтожена, если сделать вид, что спасено несколько смехотворных фрагментов, несколько клише, которые вполне годятся, чтобы попасть в любые руки. Забвение — наш единственный шанс, не так ли — мы лучше забудем все, а оно позволит нам начать все сначала. Может быть, однажды я снова встречу тебя. Я слышу, как ты открываешь дверь.
Январь 1979 года.
«Иди на войну».
Сейчас ты бесконечным предназначением должна отвергнуть от себя эту нескончаемую ненависть. И бедствие, и самопожертвование старших, и безграничную виновность, одновременно божественную и дьявольскую (так как она двойная и противоречивая, сам Бог не может взять на себя прощение, она старше его).
Я собирался сказать тебе две вещи вчера вечером, как раз перед небольшой размолвкой в машине: 1. Плато — это скромная вдова Сократа, который говорит в глубине души («ах! все эти вдовы, которые больше не покидают меня, потому ли, что я люблю их за то, что они вдовы, потому что я женюсь на них всех и тотчас заставлю носить в моем присутствии полутраур? люблю ли я их за то, что они пережили смерть, позволяя им пережить меня (их самих)? обвиняю ли я их в том, что они пережили меня в моем присутствии? Напротив, я нуждаюсь в том, чтобы, как вдова, ты сохранила меня живым, я люблю только жизнь» и т. д.). Я не рассказал тебе по пути из Котону, на Рождество, что пришло мне там в голову. Это было в Абомеи, во дворце-музее старинного королевства: гид ведет меня к некоему подобию склепа из глины. Сорок женщин, из числа всех вдов какого-то короля (я забыл, о ком шла речь), они дали похоронить себя заживо. Слишком гладко, чтобы оказаться правдой. Я очень долго думал о них, не очень-то понимая, на чьей стороне я находился, чьей смерти. Потрясающе красивые. И гид добавляет, что для этого огромного самоубийства действительно выбрали самых красивых и что им помогли умереть с помощью ядовитого растения «кокорыш» (это его слово, клянусь), тебе ли сообщил я однажды о симулированном или организованном самоубийстве Сократа? Это также, в некоторой степени, вдова Платона. Не смейся, кругом одни вдовы, получается, что так… 2. Что касается второй вещи, я не смог сказать тебе об этом вчера, это конец. Конец нашей истории, это слишком очевидно, это конец бреда или кошмара, от которых ты надеялась очнуться. Это слишком очевидно. Но в то же время это конец моего бреда вокруг Сип. Проза начинается здесь, с экспертизой доктора, который только что научил меня, как следует читать эту открытку. Я обратился за консультацией, и вот его ответ (он пишет J.C., ты помнишь, что он предложил мне заняться этим поручением вместе со специалистом из Kunstgeschichte): «Уважаемый такой-то, ваш вопрос легко решается. Нужно всего лишь дословно прочитать миниатюру. Сократ в процессе письма. Платон рядом с ним, но не диктует. Он указывает на Сократа: вот великий человек. Левым указательным пальцем он привлекает внимание зрителей, нужно внимательнее посмотреть направо, на философа, который пишет. Стало быть, он более зависим, он меньше ростом, с более скромным головным убором. Вот и все. С наилучшими пожеланиями». Приходится верить ему, он прав. «Читать дословно» — это значит сказать «буквально». Я убежден, что он буквально прав, и весь контекст, который можно себе представить (и о котором он имеет понятие), код, который регулирует жесты и позиции во всей этой иконографии, задает тон всему этому, и я никогда в этом не сомневался, он дает объяснение, и я тоже. Это я должен был читать немного «дословно» и таким образом дать волю буквальности. В своей диагностике он мне слегка напоминает Шапиро. Однако, если бы мне дали на это время, я мог бы доказать, что ничего из того, о чем я брежу, не является буквально несовместимым с его ответом «очень просто», я его немного разворачиваю, и все, вот наша история, и в этом состоит различие между нами. Впрочем, эксперт может быть объективным только в той мере (какая мера), в какой предназначено ему место, обозначенное на открытке, на картине, а не перед ней: момент желания объективности, волнение эпистемы, источник которого здесь, перед тобой, представлен этими двумя фигурами. Они наставляют тебя буквой, палочкой на путь, знай хорошенько, знай, нужно хорошо знать это, вот истина этой картины, придвинь ее поближе, ответ очень прост. Бесполезно поднимать столько платьев, это и так бросается в глаза.
Читать дальше