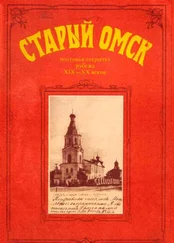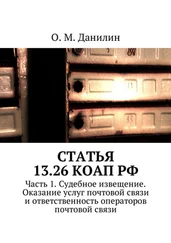Шесть часов утра, у тебя полдень, я только что позвонил тебе, ты не ожидала этого. Я никогда не забуду этот взрыв смеха в твоем голосе. Сейчас ты соединишься со мной очень быстро. Через два часа вылет в Корнел, послезавтра — в Калифорнию. Но сейчас, чем больше я приближаюсь к западу, тем больше ты приближаешься ко мне. Я не отдалюсь от тебя никогда.
Первые дни января 1979 года.
как если бы ты захотела освободить меня от моего обета, и что, когда я снова пишу тебе, как раньше, благодаря всего нескольким оборотам, я прекращаю обращаться к тебе. Как если бы разбушевавшаяся жестокость этого поста, оргия этой беспрерывной молитвы, которая заставляет все слова возноситься к тебе (я никогда тебе столько не писал, как в течение этих двух последних месяцев), чтобы сохранить тебя только для тебя, единственной, чтобы уметь сжигать их живыми, как если бы вдруг песня испугала бы тебя
Эта «ремиссия» была бы последней, казалось, ты была в этом увереннее, чем я, так как я никогда не соглашусь поверить в это — а впрочем, я сделаю так, я клянусь тебе в этом, что это никогда не случится. Я все еще под впечатлением от, по сути, совершенно случайного характера этого события (несчастного случая: один-единственный несчастный случай, на этот раз худший, может случиться, не так ли, дойти до того, чтобы случиться), как если бы ты позволила дате произвольно утвердиться, скажем, последний или предпоследний день года, к полуночи. Эта случайность — только ли это вероятность (здесь можно легко найти 7: у меня на столе маленькая карточка, я собираю здесь цифры и несколько очень простых операций. Без какой-либо искусственной манипуляции я вижу царящую цифру 7, я вижу, как она распространяет свое сияние на все наши годовщины, наши огромные сроки платежа, великие встречи. 7, написанное, как в Апокалипсисе. И, наконец, это почти необходимо. Я очарован еще и внезапностью, очевидной непредвиденностью того, что вдруг приобретает такой же фатальный характер (еще два часа назад ты не думала об этом, ты жила в другом мире, я верю в это, несмотря на твои отрицания), особенно ошеломленный значимой вульгарностью предлогов и мест, которые ты выбрала, чтобы позволить вернуться модистке 1930 года, которую я считал уже обескураженной, твое «определение»: эти истории о плохой музыке (я отстаиваю в этом сюжете все, что сказал: я ничего не имел против, но она была плохая и, в конце концов, в данный момент нам есть чем заняться), эта вспышка раздражения по поводу телевидения, потом эта манера говорить по телефону (там прямо передо мной предстала модистка: «мы не флюгера», «в каком смысле ты зовешь меня?»), как если бы ты вела переговоры на пороге с агентом по недвижимости или как если бы я торговал на распродаже со скидкой, т. е. остатками партии («партия» у нас — это тайна, закон партии, способ, которым группируются удары судьбы, которые «настигают только нас»). Я в нескольких шагах от тебя, я слышу тебя, сейчас ты кажешься такой чужой, я люблю тебя, и я даже хотел бы любить эту модистку, если бы я только мог. Это, конечно же, вдова, которую ты поселила там, она неудачно повторно вышла замуж и ревнует нас. Она любит меня больше, чем тебя, вот в чем катастрофа — и вы не признаетесь в этом, ни одна, ни другая.
Январь 1979 года.
Я прихожу из госпиталя, а ты еще не вернулась. Я скорее предпочту писать тебе об этом, чем говорить. Очень тягостный опыт, который пробуждает во мне не знаю что или кого. Они увеличивают количество анализов крови (вероятно, отрицательных, в любом случае это то, что они говорят семье), рентгенов, пункций позвоночника. Несмотря на то, что анализы не «дают» ничего, признаки ослабления увеличиваются и семья тревожится, я начинаю понимать это. Не сердись на меня, если я хожу туда так часто. Я чувствую, что мое присутствие благотворно, и оттуда исходит просьба, в которой я не вправе отказать. Наконец, я очень хотел сказать тебе, что не смог напомнить ему о письме, как ты подсказала мне еще до каникул. По правде говоря, я подумал, что не имею права делать это, жестокость и нескромность подобного жеста невозможна для меня, о нет, я не чувствую себя способным на это. К тому же мое доверие — без границ, это как если бы я отдал письмо своему отцу или матери. Позднее я увижу, так ли это.
Странно, что это случается со мной в одно время с очками — эта затрудненность читать вблизи вдруг увеличилась. И эти две золотые пломбы у меня во рту.
Январь 1979 года.
К тебе самой, к единственной тебе — ты ревнуешь. Это твое единственное право.
Читать дальше