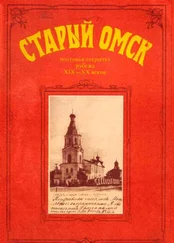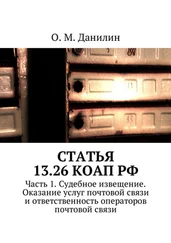«Я был чрезвычайно удивлен его неслыханной начитанностью; но кроме того, у меня в душе возникало ощущение какой-то теплоты и исполненной жизни свежести его воображения. В Париже я искал некоторые предметы, являвшиеся объектом моего изучения (seeking in Paris the objects I then sought), и понимал, что общество подобного человека является для меня бесценным сокровищем (a treasure beyond price), и с тех пор я искренне вверился ему (I frankly confided to him). Наконец мы решили, что будем жить вместе в течение всего моего пребывания в этом городе; и так как мои дела были не в столь затруднительном положении, как его, я занялся съемом квартиры и ее меблировкой в стиле присущем причудливой меланхолии обоих наших характеров (in a style which suited the rather fantastic gloom of our common temper), это был маленький, странный античный домик, пустовавший из-за каких-то суеверий, о которых мы удосужились навести справки, он был в состоянии крайней ветхости и находился в отдаленной части предместья Сен-Жермен».
Таким образом, речь идет о двух чудаках (меланхоликах), один из которых не говорит нам, что же он искал тогда в Париже, ни каковы были его «предыдущие компаньоны», от которых он собирается теперь скрыть секрет своего местонахождения (secret — locality). Все пространство теперь сведено к умозаключениям этих двух «ненормальных»:
«Если бы рутина нашей жизни в этом месте стала известна миру, нас бы приняли за двух ненормальных, — может быть, за двух довольно безобидных сумасшедших. Наше затворничество (seclusion) было полным. Нас никто не навещал (We admitted no visitors). Место нашего уединения оставалось в тайне — тщательно охраняемой — от моих бывших компаньонов (Indeed the locality of our retirement had been carefully, kept a secret from my own former associates); уже несколько лет, как Дюпэн прекратил появляться в свете. Мы жили только вдвоем».
С тех пор рассказчик позволяет себе рассказывать о своем прогрессирующем отождествлении с Дюпэном. И прежде всего на почве обожания ночи, «черного божества», «видимость» которой они «создают» в ее отсутствие:
В настроении моего друга появилась одна причуда (a freak of fancy), — просто не знаю, как это выразить словами? — он обожал ночь из любви к ночи; да и сам я постепенно проникался этой причудой (bizarrerie), как и всеми другими, которые были ему свойственны, позволяя себе следовать этой странной оригинальности с полным самоотречением (abandon). Черное божество (the sable divinity) не могло неотступно находиться при нас, но мы ухитрялись создавать видимость ее (but we could counterfeit her presence).
Он сам, как бы раздвоенный в своей позиции рассказчик, таким образом, отождествляется с Дюпэном, за кем он не перестает с тех пор «замечать и восхищаться» его «чрезвычайной аналитической способностью» и кто продемонстрировал ему множество примеров «глубокого знания» его собственной личности, его, рассказчика, личности. Но и сам Дюпэн, особенно в эти моменты, кажется раздвоенным. И на сей раз это уже «fancy», прихоть рассказчика, который видит его раздвоенным: «В такие моменты он выглядел холодным и рассеянным (frigid and abstract); его глаза смотрели невидящим взглядом, а голос — обыкновенно, богатый голос тенора, — сбивался почти на фальцет, куда только девалась его обычная живость, абсолютная взвешенность рассуждений и безупречность интонации (distinctness of the enunciation). Наблюдая за ним в таком расположении духа, я зачастую погружался в созерцание старинной философии о двойственности души (By-Part Soul), и меня забавляла сама несуразность ощущения двойственности Дюпэна (the fancy of a double Dupin) — творческой натуры и аналитика (resolvent)».
Фантастичность отождествления двух раздвоенных раздвоенностей, глубокое влияние связи, уводящей Дюпэна по ту сторону «интерсубъективных триад» «реальной драмы» и рассказчика, на то, что он повествует [95] ; кругооборот страстей и капитала, значимого и писем, предшествующих и последующих двум «треугольникам», «первичного» и вторичного, цепная реакция позиций, начиная с позиции Дюпэна, который, как и все персонажи, внутри и вне повествования, поочередно переходит с места на место — вот что сводит трехстороннюю логику к весьма лимитированной детали в детали. И если дуалистское отношение между двумя раздвоенностями (то, что Лакан, по-видимому, приписывает воображаемому) включает в себя и обволакивает все пространство так называемого символического, без конца выходит по ту сторону и извращает его, то противопоставление воображаемого символическому, в особенности его подразумеваемая иерархия, представляется весьма малоубедительной: во всяком случае, если соизмерять ее с многоплановостью подобной сцены написания.
Читать дальше