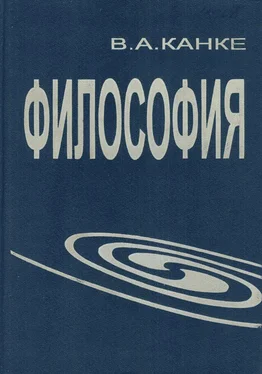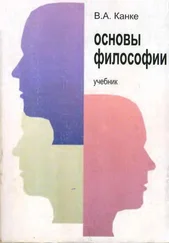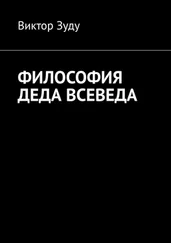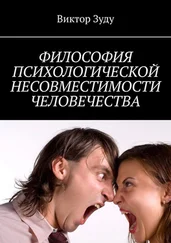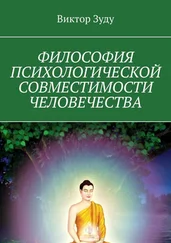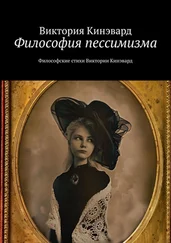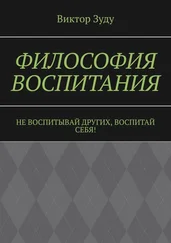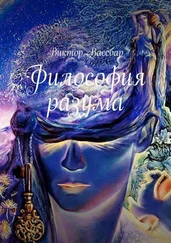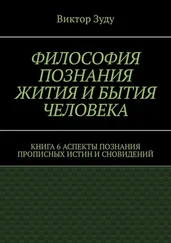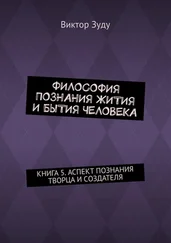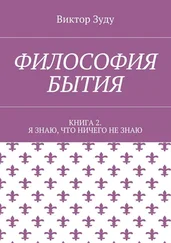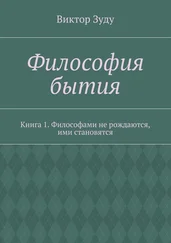Несоответствия теории эксперименту часто удается ликвидировать простыми средствами, а именно: внесением в старую теорию некоторых усовершенствований. В таких случаях дело не доходит до научной революции. По Лакатошу, наиболее принципиальные положения теории как бы окружены некоторым защитным слоем менее важных положений, которые принимают на себя первые "удары" экспериментальных данных. Ядро теории будет разрушено лишь после того, как произошло разрушение защитного слоя теории.
Отметим также, что в эксперименте проходит проверку и опровергается не то или иное частное положение теории, а теория в целом. Всякое конкретное положение есть следствие теории как целого. В силу этого эксперимент соотносится со всей теорией как целым.
Но теория реализует свои идеи в "развертке", для понимания которой необходима наряду с корреспондентской когерентная концепция истины. Согласно последней, все научные утверждения образуют единое гармоническое целое. Истинное всегда выступает элементом гармонического целого, каковым в нашем случае и является наука в единстве ее как экспериментальных, так и теоретических составляющих. Новые теоретические и экспериментальные данные проходят проверку на их согласованность с уже известными данными. Такое согласование может потребовать более или менее кардинальной перестройки системы научного знания. Современное научное знание имеет именно системный и весьма разветвленный характер. Разумеется, успешно ориентироваться в нем не просто. На заре своего становления научное знание было относительно простым, научные доказательства содержали не слишком много логических ходов, мысль то и дело "заземлялась" на факты. Частое обращение к фактам замедляло движение научной мысли. В наши дни ученый имеет возможность обратиться к фактам уже после проведения значительной теоретической работы, после преодоления большого расстояния в фактуально разряженном пространстве абстракций (компьютерная техника помогает ему в этом деле). За счет описанного феномена, а он оказался возможным лишь в силу системности научного знания, мысль человека стала столь эффективной, какой ранее никогда не была. Итак, человек реализует в науке свои уникальные возможности отнюдь не тривиальным образом. В соответствии с этим изменилась трактовка научной истины. Истинное научное утверждение входит в состав науки как системы знания.
Обратимся теперь к прагматической концепции истины, согласно которой практика — критерий истины. В науке критерий практики часто довольно прямолинейно связывают со значением эксперимента. Но научная практика не сводится всего лишь к эксперименту, а представляет собой все поле применения науки, ее жизненное значение для человека. Нет такой области деятельности человека, где бы не использовалась наука, она стала одной из важнейших сущностных сил человека. С учетом этого не будет преувеличением утверждать, что полем проверки науки на истинность стала вся жизнь человека, все ее сферы, в которых она действительно используется.
Разветвленный, сложный характер науки предъявляет непростые требования к ее истолкованию. В чем сила науки? Каковы ее идеалы? Достаточно ли требовать от науки ответа лишь на вопрос "Как происходят явления?" или же на вопрос "Почему они именно так происходят?". Не противоречит ли наука искусству, религии, другим областям человеческой жизни? Не приведет ли наука человечество в конечном счете к катастрофе?
Идеалы науки. Этика ученого
Наука в лице своих представителей всегда стремится к вершинам человеческого знания. Все дороги, которые ведут к этим вершинам, составляют идеалы науки. Идеалы науки — это ее теоретические и экспериментальные методы, позволяющие достигнуть максимально обоснованного и доказательного знания.
В одних случаях наука дает описание явлений, в других она объясняет их природу посредством использования достижений аксиоматического, гипотетико-дедуктивного, конструктивистско-генетического методов. Если для объяснения фактов используются законы, то мы имеем дело с номонологическим объяснением. Если же для объяснения фактов используется теория, то мы имеем дело с теоретическим объяснением. Ясно, что различение номонологического и теоретического объяснений имеет смысл лишь в том случае, когда законы не входят в состав теории. В противном случае всякое номонологическое объяснение одновременно является и теоретическим объяснением.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу