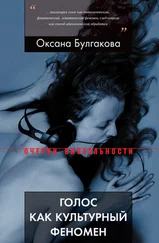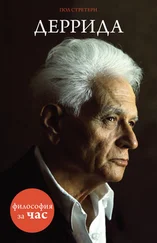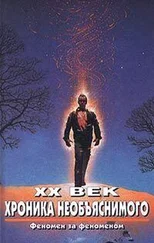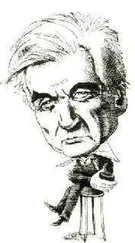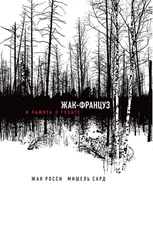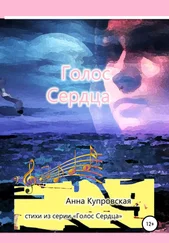Может быть, это открывает благоприятную возможность для нового прочтения дефиниции «принципа принципов». «Но достаточно таких, вывернутых шиворот-навыворот теорий! Никакая теория, как мы знаем, не может ввести нас в заблуждение относительно принципа всех принципов : что всякая первичная данность интуиции является источником полномочия ( Rechtsquelle) для познания , который как бы ни представлялся в "интуиции" в изначальной форме (так сказать, в своей телесной реальности), просто принимается, как он себя выдает , хотя только в тех пределах, в которых он, таким образом, представляется . Надо глубоко усвоить тот факт, что сама теория в своем построении не могла извлечь свою истину не из первичных данных. Всякая формулировка, которая не делает ничего сверх того, что дает таким данным выражение, только раскрывая их значение и тщательно его выверяя, является поэтому действительно, как мы выразились во вступительной части этой главы, абсолютным началом , называемым в подлинном смысле небезосновательно principium » ( Ideas I , § 24; ET, p. 92).
См. по этому вопросу наше эссе «Freud et la scène de l'écriture» в L'Ecriture et la différence (Paris: Seuil, 1967), p. 293–340.
В мигании глаза (нем.). — Прим. перев.
См., например, среди многих аналогичных текстов Приложение III к Феноменологии внутреннего сознания времени : «Мы имеем, таким образом, в качестве существенных модусов сознания времени: (1) "ощущение" как представление настоящего (презентация) и с ним сущностно переплетенные ( verflochtene ), однако также становящиеся самостоятельными ретенцию и протенцию (изначальная сфера в более широком смысле); (2) полагающее воспроизведение как чистую фантазию, в которой все те же модусы появляются в фантазии-сознании» (ФВСВ, РП, Прил. III. С. 121). Здесь опять, и это будет рассмотрено, суть проблемы принимает форму переплетающихся ( Verflechtung ) нитей, существо которых бережно распутывает феноменология.
Это расширение изначальной сферы есть то, что дает нам возможность различать между абсолютной конкретностью, приложимой к ретенции, и относительной конкретностью, зависимой от вторичной памяти или повторения ( Wiedererinnerung ) в форме репрезентации. Говоря о восприятии как первичных опытах ( Urerlebnisse ), Гуссерль пишет в Идеях I : «При более пристальном рассмотрении в их конкретности обнаруживается только одна , но всегда непрерывно текущая абсолютно изначальная фаза , фаза живого Теперь … Поэтому, к примеру, мы схватываем абсолютное право имманентной воспринимающей рефлексии, т. е. имманентного восприятия без каких-либо ограничений , действительно достигающего в своем потоке первичных данностей. Это касается и абсолютного права имманентной ретенции , того в ней, что мы осознаем как "все еще" живое и "только что" случившееся, но, конечно, не того содержания, которое достигается позже… Подобным же образом мы схватываем относительное право имманентного воспоминания» ( Ideas I , § 78, ET, p. 221–222).
В частности в § 77, где ставится проблема различия и отношений между рефлексией и репрезентацией, например во вторичной памяти.
См., например, § 42: «Но каждому сознанию настоящего и сознанию, осуществляющему настоящее, соответствует идеальная возможность точно соответствующего воспроизведения этого сознания» (С. 93).
См., в частности, гл. IV, и в особенности § 114—27 в Ideas I (Section III). В другом месте мы будем исследовать их более подробно и на их собственном материале. См.: Форма и значение.
См. Логические исследования , Первое Исследование, гл. III, 26: «Фактически любое выражение, включающее личное местоимение, не имеет объективного смысла. Слово "я" от случая к случаю именует различных лиц… Больше того, в этих случаях указательная функция является опосредующим звеном, взывая, так сказать, к слушающему: Твое vis-a-vis имеет в виду тебя самого» (ET, р. 315—16). Не заключается ли вся проблема в одинокой речи, где, говорит Гуссерль, наполняется и доводится до конца Bedeutung "я",элемент универсальности, присущий выразительности как таковой, не запрещает эту полноту и не лишает субъекта полной интуиции Bedeutung "я".Проблемой является одинокая речь, которая либо прерывает, либо только интериоризирует диалоговую ситуацию, в которой, говорит Гуссерль, «так как каждое лицо, говоря о себе, говорит "я", слово имеет характер универсально действующего указания на этот факт».
Читать дальше