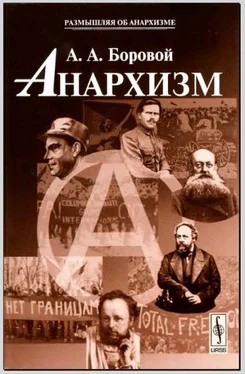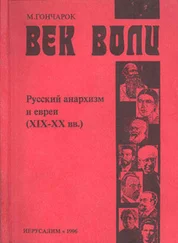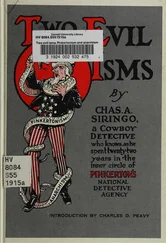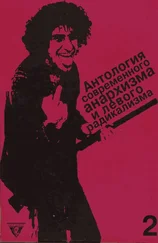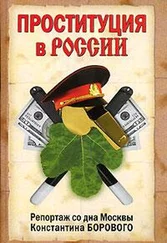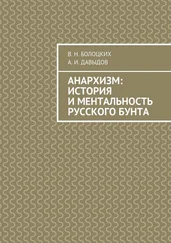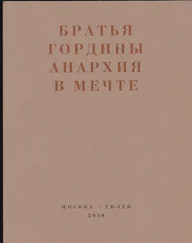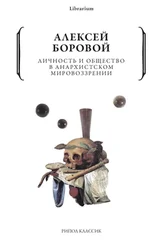Соціально-политическій прогрессъ для него не существуетъ, ибо общественныя симпатіи его къ тому или другому бытовому укладу обусловливаются не соображеніями «общаго блага», обезпеченія справедливости, утвержденія свободы и т. п., но исключительно личными вкусами. И въ этомъ смыслѣ античное государство съ институтомъ рабства, феодализмъ и крѣпостничество, вольный городъ и цеховая регламентація, буржуазное правовое государство, соціалистическій строй, анархистическая община — для него совершенно равноцѣнны.
Требуя неограниченной свободы для себя, онъ отдаетъ свои симпатіи Платоновскому «Государству мудрыхъ», мандаринату, диктатурѣ, аморфному, ничѣмъ не связанному «союзу эгоистовъ». Его не смущаютъ одіозныя привиллегіи или моральныя несовершенства излюбленнаго имъ строя. Насиліе, хищничество, закабаленіе — всѣ средства хороши для достиженія главной цѣли: утвержденія своего неограниченнаго господства, торжества своей воли. Слабому, темному, погибающему — противопоставляются «я», герой, великій человѣкъ, сверхчеловѣкъ. Цѣлыя расы могутъ послужить навозомъ для великихъ — писалъ Стриндбергъ. Весь міръ — говоритъ философъ Эмерсонъ — долженъ стать питомникомъ великихъ людей.
Анархизмъ есть не только соціальная теорія. Онъ также — соціальная практика. Анархизмъ утверждаетъ и ищетъ практическіе методы соціальнаго дѣйствія.
Несмотря на непримиримыя противорѣчія между отдѣльными теченіями анархистской мысли, есть своеобразная «программа — minimum», объединяющая всѣ оттѣнки анархизма. И эти принципы обусловливают и его тактику.
Въ ряду этихъ принциповъ
Прежде всего — отрицаніе власти, принудительной санкціи во всѣхъ ея формахъ, a слѣдовательно, всякой организаціи, построенной на началахъ — централизаціи и представительства. Отсюда отрицаніе права и государства со всѣми его органами.
Въ области собственно политической — отрицаніе политическихъ формъ борьбы, демократіи и парламентаризма.
Въ области экономической отрицаніе капитализма и всякаго общественнаго режима, построеннаго на эксплоатаціи наемнаго труда.
Наконецъ, анархизмъ въ новѣйшихъ стадіяхъ его развитія приходитъ къ убѣжденію, что революція вообще и анархическая въ «частности не декретируется «верхами», революціоннымъ правительствомъ и не срывается «сознательнымъ иниціативнымъ меньшинствомъ» или случайной кучкой «заговорщиковъ», но совершается «низами», являясь творческимъ выраженіемъ «бунта», идущаго непосредственно изъ «массъ». Но духъ «созидающій, въ отличіе отъ духа «погромнаго», можетъ найти себѣ выраженіе не въ случайныхъ и «безцѣльныхъ» взрывахъ толпы, но въ свободной ассоціаціи, поставившей сознательно опредѣленныя цѣли въ духѣ анархическаго міровоззрѣнія. Отсюда анархизмъ понимаетъ соціальное творчество, какъ самодѣятельность заинтересованнаго класса.
Классовая аполитическая организація является, поэтому, не только лучшей, но и единственно моральной и технически цѣлесообразной формой анархическаго выступленія. Акты «одиночекъ» и «кучекъ» могутъ въ извѣстныхъ случаяхъ имѣть педагогическое значеніе и могутъ быть нравственно оправданы, но къ нимъ сводить всю анархистическую тактику — значило-бы обречь ее на полное безплодіе.
Такъ анархизмъ изъ бунтарскаго настроенія личности преобразуется постепенно въ организованный революціонаризмъ массъ.
Теперь должно быть ясно коренное различіе между абсолютнымъ индивидуализмомъ и анархизмомъ.
Первый — есть настроеніе свободолюбивой личности, ни къ чему ее не обязывающее и потому — по существу — безотвѣтственное. Второй — соціальная дѣятельность, строющаяся на исповѣдываніи опредѣленныхъ принциповъ и влекущая для каждаго дѣятеля моральную отвѣтственность.
Первый ведетъ къ установленію власти, усиленію гнета, второй несетъ въ себѣ подлинно освобождающій смыслъ. Первый предполагаетъ освобожденіе единицъ за счетъ общественности, второй освобождаетъ личность черезъ свободную общественность [3] Индивидуалистическiе приципы лежатъ въ основанiи и либеральнаго мiровоззрѣнiя. Но либеральный индивидуализмъ не имѣетъ ничего общаго с анархическимъ, ибо въ основу его легли разнообразныя формы ограниченiя личной свободы — право эксплоатацiи однихъ другими при добровольномъ признанiи власти, какъ начала, обезпечивающаго «общее благо».
.
Наконецъ, чистый индивидуализмъ, какъ на это неоднократно указывалось, антиномиченъ, т.-е. внутренно противорѣчивъ и неизбѣжно ведетъ къ самоотрицанію.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу