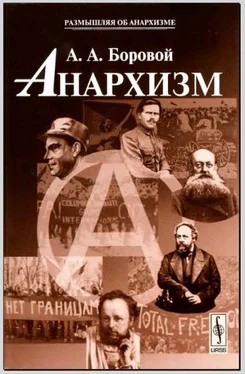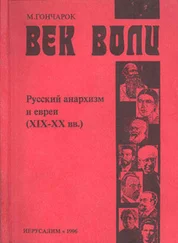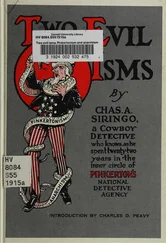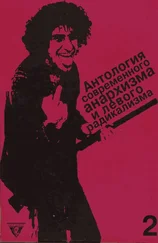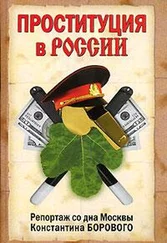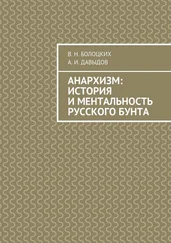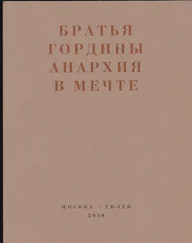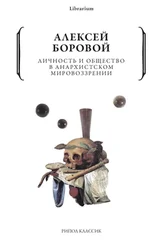«Не все-ли мнѣ равно — утверждаетъ Штирнеръ, — какъ я поступаю? Человѣчно-ли, либерально, гуманно или, наоборотъ?... Только бы это служило моимъ цѣлямъ, только бы это меня удовлетворяло, — а тамъ называйте это, какъ хотите: мнѣ рѣшительно все равно... Я не дѣлаю ничего «ради человѣка», но все, что я дѣлаю, я дѣлаю «ради себя самого»... Я поглощаю міръ, чтобы утолить голодъ моего эгоизма. Ты для меня — не болѣе, чѣмъ пища, такъ-же, какъ я для тебя...»
Что послѣ этихъ утвержденій для «Единственнаго» — право, государство?
Они — миражъ предъ властью моего «я»! Права, какъ права, стоящаго внѣ меня или надо мной, нѣтъ. Мое право — въ моей власти. «... Я имѣю право на все, что могу осилить. Я имѣю право свергнуть Зевса, Іегову, Бога и т. д., если въ силахъ это сдѣлать... Я есмь, какъ и Богъ, отрицаніе всего другого, ибо я есмь — мое все, я есмь — единственный!»
Но огромная внѣшняя мощь Штирнеровскихъ утвержденій, тѣмъ рѣшительнѣе свидѣтельствуетъ о ихъ внутреннемъ безсиліи. Во имя чего слагаетъ Штирнеръ свое безбрежное отрицаніе? Какія побужденія жить могутъ быть у «Единственнаго» Штирнера? Тѣ, какъ будто, соціальные инстинкты, демократическіе элементы, которые проскальзываютъ въ проектируемыхъ имъ «союзахъ эгоистовъ», растворяются въ общей его концепціи, отказывающейся дать какое-либо реальное, содержаніе его неограниченному индивидуализму. «Единственный», это — форма безъ содержанія, это вѣчная жажда свободы — «отъ чего», но не «для чего». Это — самодовлѣющее безцѣльное отрицаніе, отрицаніе не только міра, не только любого утвержденія во имя послѣдующихъ отрицаній — это было бы только актомъ творческаго вдохновенія — но отрицаніе своей«святыни», какъ «узды и оковы», и въ конечномъ счетѣ, отрицаніе самого себя, своего «я», поскольку можетъ идти рѣчь о реальномъ содержаніи его, а не о безплотной фикціи, выполняющей свое единственное назначеніе «разлагать, уничтожать, потреблять» міръ.
Безцѣльное и безотчетное потребленіе міра, людей, жизни — и есть жизнь «наслаждающагося» ею «я».
И хотя Штирнеръ не только утверждаетъ для другихъ, но пытается завѣрить и себя, что онъ, въ противоположность «религіозному мipy», не приходитъ «къ себѣ» путемъ исканій, а исходитъ «отъ себя», но — за утвержденіями его для каждаго живого человѣческаго сознанія стоитъ страшная пустота, холодъ могилы, игра безплотныхъ призраковъ. И когда Штирнеръ говоритъ о своемъ наслажденіи жизнью, онъ находитъ для него опредѣленіе, убійственное своимъ внутреннимъ трагизмомъ и скрытымъ за нимъ сарказмомъ: «Я не тоскую болѣе по жизни, я «проматываю» ее» («Ich bange nicht mehr ums Leben, sondern «verthue» es»).
Эта формула — пригодна или богамъ или человѣческимъ отрепьямъ. Человѣку, ищущему свободы, въ ней мѣста нѣтъ.
И нѣтъ болѣе трагическаго выраженія нигилизма, какъ философіи и какъ настроенія, чѣмъ штирнеріанская «безцѣльная» свобода [1] Однако, Штирнеріанству неопасны обычныя «разъясненія» его изъ лагеря марксистовъ. Попытки характеризовать его, какъ «буржуазную отрыжку», бьютъ мимо цѣли. Въ Штирнеріанствѣ есть элементы, совершенно чуждые «капиталистической культурѣ». А чисто анархическіе моменты отрицания, разумѣется, не могутъ быть восприняты Бернштейномъ, Плехановымъ и пр.
.
Такимъ же непримиримымъ отношеніемъ къ современному «религіозному» человѣку и безпощаднымъ отрицаніемъ всего «человѣческаго» напитана и другая система абсолютнаго индивидуализма — система Ницше [2] О Ницше и особенно «системѣ» Ницше надлежитъ, впрочемъ, говорить съ чрезвычайной осторожностью, дабы «упрощеніями» и «стилизаціей» не исказить подлиннаго Ницше. Въ замыслахъ его — исключительно глубокихъ, сложныхъ и художественно значительныхъ — легко открыть любое «міросозерцаніе» и найти любое «противорѣчіе». Внѣшне, въ планѣ общихъ проблемъ индивидуализма, Ницше доступенъ любому «приспособленію». И моя задача здѣсь — заключается не въ общей характеристикѣ ученій Ницше, не въ выявленіи ихъ essentialia, но лишь въ указаніи на неизбѣжность моральнаго тупика для неограниченнаго индивидуализма, поскольку онъ имѣетъ мѣсто у Ницше.
.
«Человѣкъ, это многообразное, лживое, искусственное и непроницаемое животное , страшное другимъ животнымъ больше хитростью и благоразуміемъ, чѣмъ силой, изобрѣлъ чистую совѣсть для того, чтобы наслаждаться своей душой, какъ чѣмъ-то простымъ; и вся мораль есть не что иное, какъ смѣлая и продолжительная фальсификація , благодаря которой вообще возможно наслаждаться созерцаніемъ души»... («Ienseits von Gut und Böse» § 291).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу