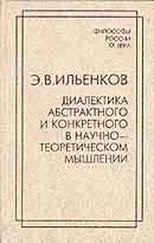Ведь определить понятие — вовсе не значит раскрыть тот смысл, который вкладывают люди в соответствующий термин. Определить понятие — значит определить предмет. С точки зрения материализма это одно и то же. Поэтому единственно правильной дефиницией является только раскрытие существа дела.
Относительно смысла или значения термина всегда можно условиться, договориться; совсем по-иному дело обстоит с содержанием понятия. Хотя содержание понятия? всегда непосредственно раскрывается как «значение термина», это совсем не одно и то же.
Это крайне важный пункт, тесно связанный с проблемой конкретности понятия, как ее понимает материалистическая диалектика (диалектическая логика).
Неопозитивисты, для которых проблема определения понятия сводится к установлению значения термина в системе терминов, построенной по формальным правилам, вообще снимают вопрос о соответствии определений понятия его предмету, существующему вне и независимо от сознания, т. е. от определения. В итоге они получают абсолютно не разрешимую проблему так называемого «абстрактного предмета». Под этим названием здесь фигурирует значение такого термина, который нельзя отнести в качестве названия к единичной вещи, данной в непосредственно-чувственном опыте индивидуума. Заметим, что последний, т. е. чувственный образ единичной вещи в сознании индивидуума, здесь опять именуется «конкретным предметом», что вполне соответствует вековым традициям крайнего эмпиризма.
Поскольку же реальная наука сплошь состоит из такого рода определений, которые непосредственного эквивалента в чувственном опыте индивидуума не имеют (т. е. имеют в качестве своего значения некоторый «абстрактный предмет»), то вопрос об отношении абстрактного к конкретному превращается в вопрос об отношении общего термина к единичному образу в сознании. Как вопрос логики он тем самым тоже снимается, подменяется вопросом отчасти психологического, отчасти формально-лингвистического порядка. Но в этом плане вопрос о предметной истинности любого общего понятия и в самом деле разрешить невозможно, ибо сама постановка вопроса заранее исключает возможность ответа на него. Неопозитивистская «логика», замыкаясь в исследовании связи и перехода от одного понятия к другому понятию (на самом деле от термина к термину), заранее предполагает, что перехода от понятия к предмету вне сознания (т. е. вне определения и вне чувственного переживания) нет и быть не может. Переходя от термина к термину, эта логика нигде не может обнаружить моста от термина не к термину же, а от термина — к предмету, к «конкретности» в ее подлинном смысле, а не к единичной вещи, данной индивидууму в его непосредственном переживании.
Единственным мостом, по которому только и можно перейти от термина к предмету, от абстрактного к конкретному и обратно и установить прочную однозначную связь между тем и другим, является, как показали Маркс и Энгельс еще в «Немецкой идеологии», предметно-практическая деятельность, предметное бытие вещей и людей. Чисто теоретического акта здесь недостаточно.
«Для философов одна из наиболее трудных задач — спуститься из мира мысли в действительный мир. Язык есть непосредственная действительность мысли. Так же, как философы обособили мышление в самостоятельную силу, так должны были они обособить и язык в некое самостоятельное, особое царство. В этом тайна философского языка, в котором мысли, в форме слов, обладают своим собственным содержанием» [26] Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, 2‑е изд., т. 3, с. 448.
, — писал Маркс еще в 1845 г., почти за сто лет до новейших позитивистских открытий в области логики. В результате же такой операции «задача спуститься из мира мыслей в действительный мир превращается в задачу спуститься с высот языка к жизни» [27] Там же.
и воспринимается философами подобного направления как задача, подлежащая опять-таки словесному решению, как задача изобретения особых, магических слов, которые, оставаясь словами, тем не менее есть что-то большее, чем только слова.
К. Маркс и Ф. Энгельс блестяще показали в «Немецкой идеологии», что сама задача эта — мнимая, возникающая только на почве того представления, что мысль и язык есть особые сферы, организованные по своим имманентным правилам и закономерностям, а не формы выражения действительной жизни, предметного бытия людей и вещей.
«Мы видели, что вся задача перехода от мышления к действительности и, значит, от языка к жизни существует только в философской иллюзии… Эта великая проблема… должна была, конечно, в конце концов заставить одного из этих странствующих рыцарей отправиться в путь в поисках слова, которое в качестве слова образует искомый переход, в качестве слова перестает быть просто словом и указывает таинственным сверхъязыковым образом выход из языка к действительному объекту, им обозначаемому…» [28] Там же, с. 451.
.
Читать дальше