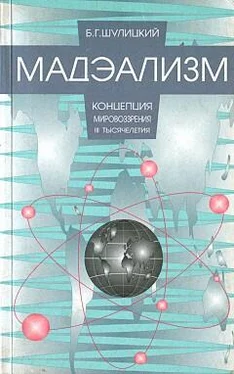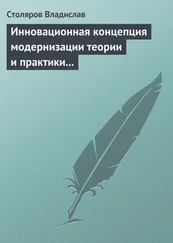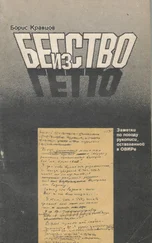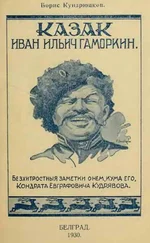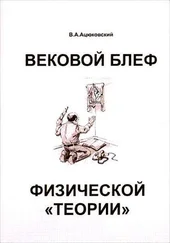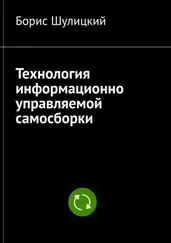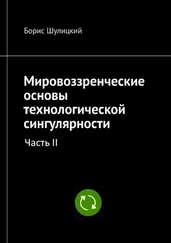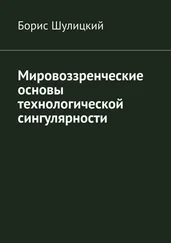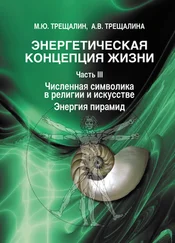Приступая к творческой разработке диалектической теории развития, Гегель подверг критике широко распространенные в его эпоху метафизические представления о сути и значении метода в философии и науке. «Он утверждал, что философия, но сути дела, все еще не нашла своего истинного метода и что только он, Гегель, в „Феноменологии духа“ дал образчик истинного метода философской науки, применив его к конкретному предмету — к сознанию. Философия „смотрела с завистью на систематическое сооружение математики, — писал Гегель, — и пробовала заимствовать у нее ее метод или обходилась методом тех наук, которые представляют собою лишь смесь данного материала, опытных положений и мыслей, или, наконец, выходила из затруднения тем, что грубо отбрасывала всякий метод. Но раскрытие того, что единственно только и может служить истинным методом философской науки, составляет предмет самой Логики, ибо метод есть сознание о форме внутреннего самодвижения ее содержания“ (20,32). Так метко критиковал Гегель метафизические представления о методе, о его роли и значении. Но Гегель не только критиковал ложные, антинаучные представления о методе, он убедительно доказал, что метод не есть „нечто отличное от своего предмета и содержания“ и что его нельзя привнести извне или заимствовать у той или иной науки. Истинный философский метод, утверждал он, можно вывести или извлечь лишь из самого предмета или содержания философии, в данном случае из логики, так как логика и метод по своему происхождению и по своему внутреннему содержанию тождественны. Исходя из принципа абсолютного тождества мышления и бытия, мысли и действительности и противопоставляя этот принцип кантовскому метафизическому разрыву логики и природы, Гегель пришел к гениальной мысли о единстве логики, диалектики и теории познания , что явилось серьезным вкладом в философскую теорию» (53,66).
Несмотря на признание тождества мышления и бытия, гегелевский идеализм проявился в представлениях о значении бытия, природы. Хотя он и признавал значимость категории бытия («категории бытия суть существенные определения идеи, в общем равные по своему принципиальному значению остальным логическим категориям» (24,40)), но при этом отводил природе уничижительную роль («для мысли не может быть ничего более малозначащего по своему содержанию, чем бытие» (24,40)). Этот аспект можно считать, на наш взгляд, одним из пробелов в гениальной гегелевской философской системе.
Диаметрально противоположную значимость бытию, природе придали в своей философской системе классики марксизма. Принцип единства диалектики и теории познания имел у них своим основанием, базисом не абсолютную идею, а реальный, материальный мир, материальную действительность.
Марксизм — это стройное учение, в основе которого лежит творчески переработанный гегелевский диалектический метод (материалистическая диалектика). Значительным вкладом, внесенным классиками марксизма в философскую теорию, следует признать вычленение, подчеркивание сути диалектического метода, выделение ядра диалектики — основных законов развития. Марксизм показал применимость и эффективность использования диалектического метода при исследовании исторического процесса (исторический материализм). Дальнейшее развитие диалектического метода, вскрытие основных экономических законов развития общества, привнесение диалектики в исторический процесс — это бесспорные достоинства марксизма. Для периода своего сопряжения с объективной действительностью это наиболее полно и всесторонне отражающая действительность концепция, подтвердившая свою действенность на практике в революционный период. Но «…мы никогда не должны забывать, что все приобретенные нами знания по необходимости ограничены и обусловлены теми обстоятельствами, при которых мы их приобретали… » (14,302).
Ограниченность, недоработанность марксизма состоит, во-первых, в полном отсутствии анализа человека как субъекта. Проведя анализ общих законов развития социальных формаций, концепция оставила в тени человека, индивида. В марксизме человек выступает в виде какой-то абстрактной модели с весьма общими свойствами — стремлениями к свободе, к счастью и т.д. Надо признать, что в то время проблема человека и не могла быть решена. Возможность ее решения появилась позже, на рубеже XIX и XX столетий, с появлением психоаналитических исследований З. Фрейда. Синтез марксистской теории и психоанализа активно проводится в настоящее время в рамках концепции «фрейдо-марксизма» — одного из «наиболее влиятельных течений философии и психологии XX века» (97,214).
Читать дальше