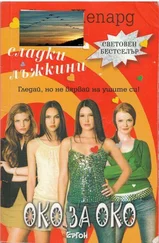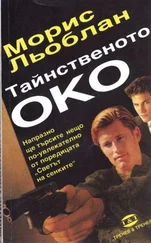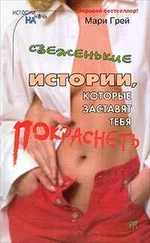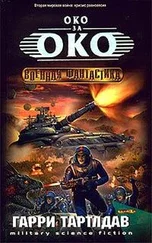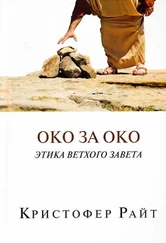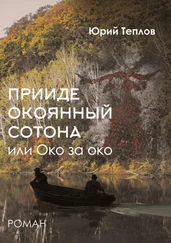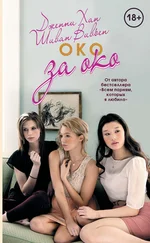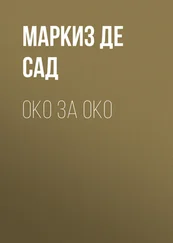Анализ офортов держится именно на этом пространстве без укромных мест, которое во всех своих точках есть то, что оно есть, не больше и не меньше, и на этом тождестве Бытия. Картезианское пространство существует «в себе» или, скорее, это прежде всего, по преимуществу «в себе», быть «в себе» — это его определение. Каждая точка этого пространства есть и мыслится там, где она есть: одна здесь, другая там — оно представляет собой очевидность «где». Ориентация, полярность, горизонт оказываются в нем производными феноменами, связанными с моим присутствием. Оно безусловно покоится в себе, повсюду равно самому себе, и его измерения по определению взаимозаменяемы.
Подобно всем классическим онтологиям, эта онтология возводит в структуру Бытия определенные свойства его частных модусов, и в этом она права и не права, истинна и ложна: перефразируя Лейбница, можно сказать, что она истинна в том, что она отрицает, и ложна в том, что утверждает. Пространство Декарта истинно в противопоставлении с мышлением, подчиненным эмпирическому и не решающимся создавать идеальные конструкции. Необходимо было сначала идеализировать пространство, представить его себе как совершенное в своем роде бытие — ясное, удобное для измерения и построения, однородное, легко обозримое мышление, которое может целиком соотнести его с тремя перпендикулярными осями, — чтобы мы смогли однажды обнаружить пределы этой конструкции, понять, что пространство не обладает тремя измерениями — не больше и не меньше, — как животное, имеющее две или четыре лапы, что эти и другие измерения выделяются различными метриками в единой мерности, полиморфном Бытии, которое дает основания для любых метрик, не выражаясь полностью ни в одной из них. Декарт был прав, высвобождая и выделяя пространство. Его ошибка состояла в том, что он возвел его в позитивное бытие, вне всякой точки зрения, свободное от всякой потаенности, лишенное какой бы то ни было глубины и настоящей плотности.
Был оправдан и его выбор в качестве образца техники перспективного изображения, разработанной Ренессансом: эта техника вдохновила живопись на свободное экспериментирование с глубиной и в целом со способами представления Бытия. Она становится ошибочной и ведет к заблуждению, только если начинает претендовать на то, чтобы положить конец поискам и истории живописи, обосновать единственно правильный и неопровержимый вид живописного изображения. Панофски [32] Панофски, Эрвин — американский историк искусства, немецкого происхождения (1892–1968). Разработал так называемый «иконологический» метод, предполагающий «чтение» произведения искусства в его цивилизованном контексте и согласно различным «уровням значения».
[33] E.Panofsky, Die Perspektive als symbolische Form, dans Vortrage der Bibliotek Warburg, IV (1924–1925).
показал это в отношении теоретиков живописи эпохи Ренессанса, чей энтузиазм не был вполне добросовестным.; Эти теоретики старались предать забвению сферическое поле зрения древних, их угловую перспективу, которая связывает видимую величину не с дистанцией, а с углом, под которым мы видим предмет. Они пренебрежительно называли ее perspectiva naturalis, или communis, отдавая предпочтение perspectiva artificalis [34] Perspecflva naturalis (communis) — естественная (общая) перспектива (латин.); perspectiva artiflcalis — искусственная перспектива (латин).
. в принципе способной стать основанием точного построения, и, чтобы добиться веры в этот миф, доходили до того, что делали купюры в Эвклиде, опуская в переводах теорему VIII, которая их стесняла. Сами же художники знали по опыту, что ни одна из техник изображения перспективы не может быть однозначным решением, что нет такой проекции существующего мира, которая учитывала бы все его аспекты и могла бы заслуженно стать фундаментальным законом живописи, линейная же перспектива тем более не может быть конечной инстанцией, что она, наоборот, открывает перед живописью множество различных путей: путь репрезентации предмета, принятый итальянцами, но и способы Hochraum, Nahraum, Schrägraum [35] Hochraum, Nahraum, Schrägraum — высокое пространство, близлежащее пространство, наклонное пространство (нем.).
художников Севера… Таким образом, плоскостная проекция не всегда побуждает наше мышление восстанавливать истинную форму вещей, как полагал Декарт: дойдя до определенного уровня деформации, она, напротив, отсылает к нашей точке зрения; что же касается вещей, они оказываются в отдалении, которое никакое мышление не в состоянии преодолеть. В пространстве есть нечто такое, что ускользает от наших попыток поверхностного обзора. Истина состоит в том, что никакое приобретенное нами средство выражения не может разрешить проблем живописи, не превращает ее в совокупность технических приемов, поскольку ни одна символическая форма никогда не действует подобно стимулу: там, где она действует, это действие осуществляется вкупе со всем контекстом произведения, а не посредством обмана зрения. Stilmoment никогда не свободен от Wermoment [36] Stilmoment; Vermoment — момент стиля; момент личности.
[37] E.Panofsky, Die Perspektive als simbolische Form, dans Vortrage der Bibliotek Warburg, IV (1924–1925).
. Язык живописи не «установлен Природой»: он подлежит деланию и переделке. Перспектива Ренессанса — не какой-то верный на все времена «трюк»: это всего лишь частный случай, дата, момент в поэтическом образовании мира, которое с изобретением этой перспективы не прекращается.
Читать дальше


![Найо Марш - Всевидящее око [Чернее черного. Всевидящее око. Работа для гробовщика]](/books/85900/najo-marsh-vsevidyachee-oko-chernee-chernogo-vsevidyach-thumb.webp)