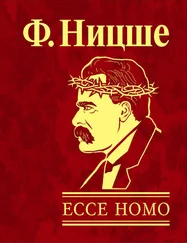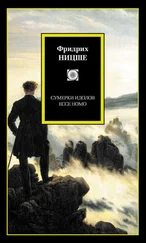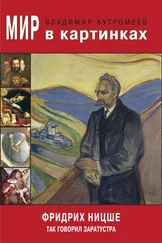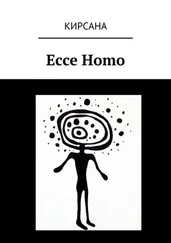Вторая разумная мера и самозащита состоит в том, чтобы как можно меньше реагировать и не ставить себя в такие положения и условия, когда обречён как бы отрешиться от своей «свободы» и инициативы и обратиться в простой реагент. Я беру для сравнения общение с книгами. Учёный, который в сущности лишь «переворачивает» книги — средний филолог до 200 в день, — в конце концов совершенно теряет способность самостоятельно мыслить. Если он их не переворачивает, он не мыслит. Когда он мыслит, то отвечает на раздражение (на прочтённую мысль), — в конечном счёте он только реагирует. Учёный отдаёт всю свою силу на утверждение и отрицание, на критику уже продуманного, — сам он уже не думает... Инстинкт самозащиты притупился в нём, иначе он оборонялся бы от книг. Учёный есть décadent. Это я видел своими глазами: одарённые, богатые и взыскующие свободы натуры уже к тридцати годам «позорно начитанны», они только спички, которые надо потереть, чтобы они дали искру — «мысль». — Ранним утром, едва только занимается день, во всей свежести, на заре своих сил читать книгу — это называю я порочным!
9
В этом месте нельзя уклониться собственно от ответа на вопрос, как становятся собою . И сим я обращаюсь к шедевру в искусстве самосохранения — к себялюбию ... Если предположить случай, когда задача, предназначение, судьба задачи значительно превосходят среднюю норму, то нет большей опасности, как увидеть себя самого вместе с этой задачей. Становление собою предполагает, что человек не имеет даже самого отдалённого представления о том, что он такое. С этой точки зрения свой собственный смысл и ценность имеют даже жизненные ошибки , временные блуждания и окольные пути, промедления, «скромности», серьёзность, потраченная на задачи, которые лежат по ту сторону собственно задачи . В этом может проявляться великая, даже высшая разумность: там, где nosce te ipsum [28]было бы рецептом гибели, разумом становится самозабвение, непонимание себя, умаление себя, сужение, сведение себя к чему-то посредственному. Выражаясь нравственно: любовь к ближнему, жизнь для других и другого может быть защитной мерой для сохранения самой твёрдой любви к себе. Это тот исключительный случай, когда я, в пику моим правилам и убеждениям, становлюсь на сторону «самоотверженных» инстинктов — здесь они служат себялюбию и самовоспитанию . — Всю поверхность сознания — а сознание есть поверхность — надо хранить чистой от какого бы то ни было великого императива. Надо остерегаться даже всякого величественного слова, всякой величественной позы! Это сплошные опасности, что инстинкт «поймёт себя» слишком рано — — Меж тем в глубине постепенно растёт организующая, призванная к господству «идея» — она начинает повелевать, она медленно выводит обратно с окольных и ложных путей, она подготавливает отдельные качества и способности, которые однажды проявят себя необходимым средством для целого, — она выстраивает поочерёдно все служебные способности ещё до того, как даст знать что-либо о доминирующей задаче, о «цели» и «смысле». — С этой точки зрения моя жизнь просто чудесна. Для задачи переоценки ценностей потребовалось бы, пожалуй, больше способностей, чем когда-либо соединялось в одном человеке, прежде всего — противоположность способностей, без того, чтобы они мешали друг другу, разрушали друг друга. Иерархия способностей, дистанция, искусство разделять, не создавая вражды; ничего не смешивать, ничего не «примирять»; неимоверное разнообразие, которое, несмотря на это, есть противоположность хаоса, — таково было предварительное условие, долгая сокровенная работа и артистизм моего инстинкта. Его высший надзор проявлял себя до такой степени, что я ни в одном случае даже не догадывался о том, что созревает во мне, — в один прекрасный день все мои способности выступили внезапно, зрело, во всём своём совершенстве. Я не могу припомнить, чтобы мне когда-нибудь приходилось стараться, — в моей жизни нельзя указать ни единой приметы борьбы ; я составляю противоположность героической натуры. Чего-то «хотеть», к чему-то «стремиться», иметь в виду «цель», «желание» — ничего этого я не знаю из опыта. Даже в данное мгновение я смотрю на своё будущее — широкое будущее! — как на гладкое море: ни единого желания не пенится в нём. Я нисколько не желаю, чтобы нечто становилось иным, чем есть; я сам не хочу становиться иным... Но так жил я всегда. У меня не было никаких желаний. {29} Я — тот, кто на сорок пятом году жизни как никто другой может сказать, что он никогда не заботился о почестях , о женщинах , о деньгах ! — Не то, чтобы у меня их не было... Так, сделался я однажды, к примеру, профессором университета — до того я даже отдалённо не помышлял ни о чём подобном, ведь мне едва исполнилось 24 года. Так, двумя годами раньше в один прекрасный день я сделался филологом: в том смысле, что моя первая филологическая работа {30} , мой дебют во всех смыслах, был принят моим учителем Ричлем для публикации в его «Rheinisches Museum» ( Ричль — я говорю это с уважением — единственный гениальный учёный, которого я до сих пор встречал. Он обладал той милой испорченностью, которая отличает нас, тюрингенцев, и с которой даже немец становится симпатичным — даже к истине мы предпочитаем идти окольными путями. Я не хотел бы этими слова сказать, что я недостаточно высоко ценю моего более близкого земляка, умного Леопольда фон Ранке...).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](/books/77555/anatolij-livri-ecce-homo-rasskazy-thumb.webp)