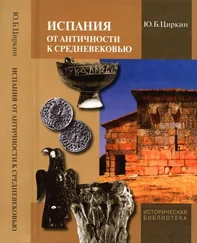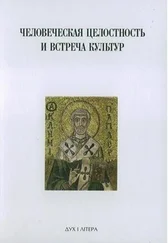Сергей Аверинцев - Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью
Здесь есть возможность читать онлайн «Сергей Аверинцев - Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Москва, Год выпуска: 1976, Издательство: Наука, Жанр: Философия, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью
- Автор:
- Издательство:Наука
- Жанр:
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
К этому надо добавить, что в пустыню гнали все новых анахоретов и невыносимые общественные условия этого тяжелого времени. Пустынник лишен собственности, он морит себя голодом и бессонницей, спит на камнях: но он свободен от страха перед несправедливостью. Монахи пытались создать в противовес к неправедному человеческому миру некий свой мир, где ценой предельных лишений был бы преодолен общественный распад. Если люди не могут стать равными в благоденствии, пусть они станут равными перед лицом лишений. Это ощущение праведного "антимира" чувствуется в словах Афанасия: "В горах лежат обители, словно шатры божественных хоров... Все это предстает как особое царство: царство страха божьего и справедливости. Здесь нет никого, кто бы творил или терпел несправедливость. Здесь не знают ненавистных вымогательств сборщика податей..." [ [28] [28] 28. Athanasii De vita S. Antonii, 5.
]. Аскет мог никого не бояться, ибо знал, что никакой мучитель не может быть по отношению к его телу более жестоким, чем он сам. Действительно, коптские монахи IV - V вв. вели себя по отношению к властям достаточно независимо и привыкли быть готовыми к тюрьме: недаром в египетской литургии Григория Богослова, возникшей в монашеских кругах, содержится молитва: "Помяни, Господи, отшельников в горах и пещерах, и братий наших в заточении" [ [29] [29] 29. E. Hammerschmidt. Die Koptische Gregoriosanaphora. Berlin, 1957, S. 48.
].
Монашество первоначально распространяется по юго-восточной окраине римского мира: после Египта вторая родина пустынножительства - палестинская пустыня, еще хранившая воспоминания о ессейских аскетах. Очень важно то, что первоначальный облик монашества творился людьми, наиболее далекими от греко-римской культуры. Расцвет пустынножительства был составной частью духовной реакции ближнего Востока против эллино-римского влияния. Сохранился характерный рассказ о греке Арсении, бросившем придворную карьеру и ученые занятия ради опрощения в коптском отшельничестве: "Однажды авва Арсений советовался с неким старцем, коптом, о своих помыслах [ [30] [30] 30. "Помыслы" (logismoi) - в аскетическом лексиконе любые спонтанно возникающие и неконтролируемые движения сознания и подсознания. Цель аскета - поставить их под контроль своей воли; это требовало специальной психофизической техники, которая и разрабатывалась "старцами" на опыте самонаблюдения.
]. Некто застал его за этой беседой и спросил: "Авва Арсений, к чему тебе владеющему римской и греческой ученостью, советоваться с этим неученым человеком о твоих помыслах?" Арсений отвечал ему: "Все это так, римской и греческой ученостью я владею, но у этого неученого человека еще не сумел перенять даже его азбуки" [ [31] [31] 31. Apophtegmata patrum, Arsenii 5.
].
Восточные народы вкладывали в практику аскезы специфические черты своего устоявшегося духовного склада. Коптское монашество отличается устремлением к грубоватому прямодушию, безразличием к религиозно-философским тонкостям; как и полагается наследникам египтян эпохи фараонов, его представители глубоко сосредоточены на идеях смерти и загробной жизни. Эта исконно египетская традиция вливается в общехристианскую психологию вчувствования в ситуацию человека перед лицом смерти; подвижники молятся, чтобы им была дарована "память смертная", т. е. постоянное конкретное ощущение пребывания на той границе, где все изъято из житейской рутины. Сирийцы вкладывают в подвижничество страсть и нервную экзальтацию, богатую фантазию и впечатлительность. Характерная фигура раннего сирийского монашества - Симеон Столпник (ум. ок. 459 г.), который испытывает самые различные виртуозные методы аскезы и в конце концов на 47 лет - до конца жизни - поселяется на узкой площадке, укрепленной поверх столба. Именно в Сирии пышным цветом расцветает христианское погружение в сладость и святость скорби (ср. евангельскую "заповедь блаженства": "Блаженны плачущие, ибо они утешатся", Матф. V, 4). Возникают легенды, которые могут показаться нам дикими и причудливыми, но которые отвечают глубочайшим душевным потребностям эпохи и получают огромный успех у народа: их настроение - пронзительная боль, добровольное растравление сердца. Такова выплывающая в Сирии начала V в. история о "человеке божием из Рима", который был сыном богатых родителей, единственным, нежно любимым чадом, но в ночь своей свадьбы бежал из дома, нищенствовал в святом сирийском городе Эдессе, а затем, изменившись до неузнаваемости, в лохмотьях и язвах вернулся к отеческому дому и жил при нем, как подкармливаемый из милости бродяга. Особенно прочувствованно легенда рисует, как над грязным нищим глумятся слуги, в то время как его родители и нетронутая молодая жена томятся по нему, думая, что он далеко. Только мертвое тело странника наконец опознают. В ранних вариантах легенды святой именуется Йохананом (Иоанном); затем он все чаще получает имя Алексия человека божьего, и под этим именем входит в средневековые литературы чуть ли не всех стран христианского мира. То же упоение слезами характерно для менее известной сирийской легенды об Архелладии или Археллите (позднее воспетом в коптской поэме): юный Археллит, единственный сын знатной вдовы, едет учиться в Афины и Бейрут, но пронзен мыслью о человеческой бренности и поступает в палестинский монастырь, где дает обет никогда не видеть женского лица; до тоскующей матери доходят слухи о монашеских трудах ее сына, она приезжает в обитель и молит Археллита о встрече; юноша не в силах ни нарушить обет, ни отказать матери, и ему остается только умереть с разбитым сердцем. Мать оплакивает его и сама находит успокоение в смерти. Нужно представить себе, как глубоко вчувствовались люди той эпохи в подобные рассказы. Создается совершенно особое понятие "умиления" (греч. eleos), т. е. любви сквозь слезы, любви как всеохватывающей, жалости. Расположение к слезам оценивается как высокое духовное дарование - "дар слезный", и его испрашивают себе в молитвах. Настроение легенд об Алексии человеке божием и Археллите может показаться нам мучительным и болезненным; но необходимо понять, как насущно нужно было чутким душам того времени не потерять в обстановке великого церковного обмирщения то новое знание о глубинах человеческого "Я", которое было через преодоление античного духа добыто ранним христианством. Тяга к самоотречению становилась в этих условиях нередко неизбежной ступенью на пути человеческого самосознания. Характерно, что именно эта эпоха впервые открывает подсознательную сферу психики. "Если под "бездной" мы разумеем великую глубину", - вопрошает Августин, - "то разве же сердце человеческое не есть бездна? И что глубже этой бездны?.. Или ты не веришь, что в человеке есть бездны столь глубокие, что они скрыты даже от него самого, в ком, однако, пребывают?" [ [32] [32] 32. Augustini Enarrationes in Psalmos XLI, 13.
] Попытку осмыслить и высветлить эти бездны, - но не рационалистическим анализом, а пронзительным ощущением "предстояиия перед богом" - предcтавляет лирическая автобиография Августина "Исповедь". Не случайно именно Августин сыграл немаловажную роль в перенесении восточного монашества на Запад. Ту же самую христианскую "слезность", которая пронизывает легенды об Алексии и Археллите или учение об "умилении", но только сочетающуюся с истинно эллинской задумчивостью, мы встречаем в элегии Григория Богослова (ум. ок. 390 г.):
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.