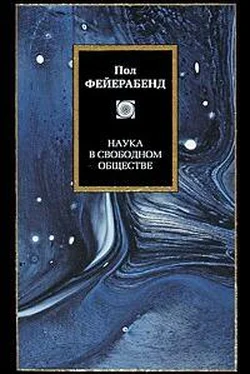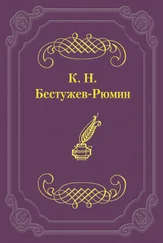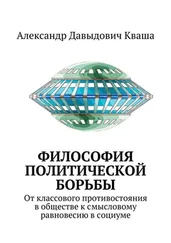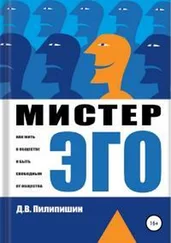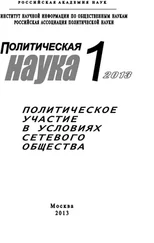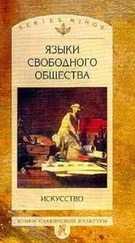Вот так я обнаружил следующее: существует огромный пласт ценного медицинского знания, к которому с осуждением и презрением относятся представители медицинской профессии. Из более современных антропологических работ нам стало известно также, что «примитивные» племена обладали аналогичными знаниями не только в области медицины, но и в ботанике, зоологии, общей биологии. Археологи открыли следы высокоразвитой астрономии каменного века, которая использовала обсерватории, имела своих экспертов и применялась в исследовательских путешествиях, которая не знала культурных границ и охватывала весь Европейский континент. Мифы, при их правильной интерпретации, оказались хранилищами знаний, о которых не подозревала наука (но которые подтверждаются научными исследованиями) и которые иногда вступают с ней в конфликт. Есть много такого, чему мы можем и чему мы должны учиться у наших далеких предков и наших «примитивных» современников. Перед лицом такой ситуации не должны ли мы, дорогой Джоз, сказать, что наша образовательная политика, включая и Вашу собственную, является чрезмерно узкой и дурной, если не сказать больше? Она является тоталитарной, ибо мерой всего она делает идеологию маленькой группы интеллектуалов. И она является близорукой, ибо эта идеология в силу своей ограниченности препятствует гармонии и прогрессу. Станем скромнее, согласимся с тем, что западный рационализм является не более чем одним из многих мифов, причем не обязательно лучшим, изменим соответствующим образом наше образование и наше общество, и тогда, быть может, мы сможем обрести тот рай, в котором мы когда-то жили, но который теперь потерялся в гаме, смоге, алчности и рационалистическом самодовольстве.
Всего наилучшего, Пол
Постскриптум 1977г.
Профессор Агасси написал ответ на мой комментарий по поводу его рецензии, и этот ответ показывает, что его способность читать не улучшилась. Мою критику либеральной демократии он истолковал как рекомендацию евреям возвратиться к религии их отцов, американским индейцам — возродить их старые ритуалы, включая танцы дождя, и он оплакивает «реакционный» характер этой рекомендации. Реакционный? Но тогда нужно признать, что движение к науке, технике и либеральной демократии не был ошибочным, а именно это и находится под вопросом. Тогда нужно считать несомненным, что старые практики, например танцы дождя, не работают, но кто это проверял (заметим, что для такой проверки потребовалось бы восстановить ту гармонию между человеком и природой, которая существовала до того, как были истреблены индейские племена)? Кроме того, я не утверждаю, будто евреи или американские индейцы должны возродить свои старые обычаи. Я говорю просто о том, что тот, кто желает возродить их, должен иметь возможность сделать это, во-первых, потому, что в демократическом обществе каждый должен иметь возможность жить так, как ему нравится, и во-вторых, потому, что не существует идеологии или образа жизни, которые не могли бы быть улучшены посредством сравнения с альтернативами.
Агасси спрашивает: «Кто вернет их (евреев, индейцев) к современности, когда период терапии закончится?» Здесь вновь повторяется все та же ошибка. Я вовсе не хочу изменить мышление людей с помощью какой-то воображаемой терапии, я возражаю против реальной терапии, называемой «обучением», которую постоянно применяют к их детям. А если люди решили возродить их старые обычаи, то почему кто-то должен заставлять их «возвращаться к современности»? Неужели «современность» настолько хороша, что к ней нужно возвращаться независимо от того, какие идеи можно почерпнуть из погружения в различные области?
Таким образом, я не могу принять простодушный способ борьбы с дьяволом, предлагаемый Агасси. — «Я упоминаю Дахау и Бухенвальд, — пишет он, — чтобы опровергнуть тезис «все дозволено», и уже этого, конечно, достаточно». — Конечно? Неужели это все, что он может сказать? Можем ли мы остановиться на этом? Можем ли мы принять отвращение (и трусливый оппортунизм тех, кто оказался не на той стороне) в качестве основы доказательства? Не обязан ли рационалист (к которым, к счастью, я не принадлежу) проверить оправданность своего отвращения и найти это оправдание? Когда Ремигий, инквизитор, был уже старым человеком, он с грустью вспоминал о том, как в молодые годы спасал от костра детей ведьм, вместо того чтобы сжечь их, как требовалось, и тем самым обрекал их на вечные муки. Ремигий был честным и гуманным человеком, тем не менее его взгляды на мир и судьбу человека заставляли его действовать таким образом, который покажется, конечно, совершенно бесчеловечным тому, кто не знает, какими мотивами он руководствовался. «Конечно», многие нацисты были ничтожными и презренными людьми — об этом свидетельствует каждая новая публикация, включая недавно опубликованные дневники Геббельса, — и совсем не того калибра, как Ремигий. Однако даже ничтожные и презренные люди являются людьми, созданными по Его образу и подобию, и уже одно это требует от нас относиться к ним гораздо более внимательно, чем подразумевается простым словечком «конечно». Я давно подумываю о том, чтобы написать пьесу о таком мерзком человеке. Он появляется — и мы сразу же начинаем ненавидеть его от всей души. Он действует — и наше отвращение к нему возрастает. Но по мере развития действия мы узнаем его все больше. Мы начинаем понимать, что его действия вытекают из его человеческой природы, — не из какой-то деградировавшей части, а из всей его человеческой природы. Он перестает казаться нам каким-то выродком, он — часть человечества, хотя и странная. Кроме того, мы уже не только понимаем его действия как действия человека, мы постигаем их внутренние основания, и они начинают привлекать нас. Мы начинаем осознавать, что могли бы действовать точно так же, и уже хотим действовать так. Мы близки к тому, чтобы стать им и действовать как он. Какого человека я имею в виду? Это может быть офицер СС, ацтек, совершающий ритуальное убийство или самокалечение, он может быть рационалистом, привыкшим убивать мысль [182], — выбирайте! Наконец, пьеса подводит итог его исходной позиции, и наша ненависть возвращается.
Читать дальше