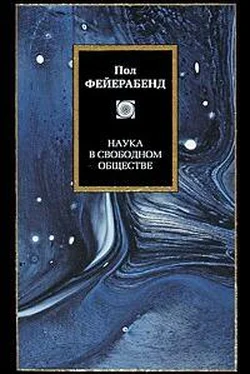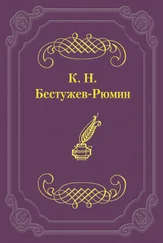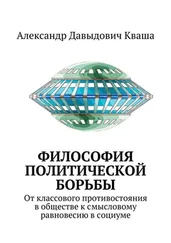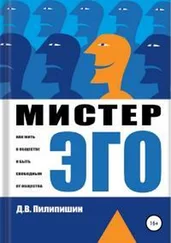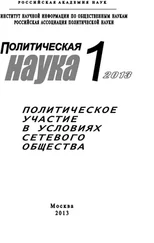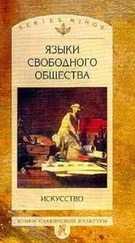О возникновении и уничтожении, 325а27. — Там же, с. 408.
О душе, 431Ь26. — Аристотель. Соч. в 4-х томах. Т. 1. М., 1976. С. 439-440.
О душе, 418а2. — Там же, с. 407.
Имеется, однако, разница между способами, которыми некоторое свойство возникает в чувствительном органе и в физическом теле. Нагревание физического тела связано с уничтожением его холодности. Создание ощущения тепла означает актуализацию потенциальности, не связанную с уничтожением (см. «О душе», 417Ь2, а также работу Брента-но «Психология Аристотеля» [11], с. 81). Причина этого различия заключается в том, что ощущение есть не просто физическое тело, но отношение между крайними состояниями (424а6).
О душе, 425Ь23. — Там же, с. 425.
Это не «индукция». Не существует «вывода» от «свидетельства» к чему-то отличному от него, ибо «свидетельство» это уже и есть сама видимая вещь.
Закон инерции Аристотеля, например (вещи сохраняют свое состояние до тех пор, пока оно не нарушается внешним вмешательством), который был повторен Декартом в «Началах философии», раздел 37, сохранялся в исследованиях биологов до начала этого столетия (открытие яиц насекомых, бактерий, вирусов и т.д.). Закон Ньютона в этих областях был бы совершенно бесполезен.
О душе, 427ЬЗ. — Там же, с. 429.
De somn {10} , 458Ь28; см. О душе, 428Ь4. — Там же, с. 431.
О душе, 428Ы2. — Там же, с. 432.
Ср. О душе, 429а5. — Там же, с. 433.
Ср. О душе, 428Ь30. — Там же, с. 432.
De somn, 460b 17.
De somn, 460Ы2. См. также «Метеорологика», 1010Ы4 о восприятии объектов, которые представляются «чуждыми» или «странными» воспринимающему их органу, а также «О частях животных» 644Ь25, где сказано, что объекты астрономии, «хотя они превосходны и удивительны, малодоступны познанию. Свидетельства, могущие пролить свет на них и связанные с ними проблемы, трудно получить с помощью наблюдения», поэтому велика возможность ошибки.
Возможно, именно осознание этого было причиной того, что он никогда не касался геоцентрической системы и не упоминал о трудностях, связанных с астрономическими наблюдениями. Об этих трудностях и их использовании в более позднюю эпоху см. ПМ, Добавление 1.
Проблема телескопических наблюдений рассматривалась в главе 10 ПМ.
De somn, 460b24.
О душе, 428а 10.
Физика, 199а38.
О душе, 425Ь25.
De somn, 460b 11 — эти примеры и их объяснение показывают, что Аристотель мог бы дать вполне правдоподобное объяснение тем необычным явлениям, о которых сообщали первые телескопические наблюдения.
De divin. per somn {11} , 463a8.
De divin. per somn, 463a29.
Метеорологика, 355b20.
Метеорологика, 355b20.
De divin. per somn, 462bl4.
Owen G.E.L. [128], c. 171.
Дж. Рэндалл [135], с. 57.
В своей книге «Объективное знание» [135], с характерной для него «скромностью» Поппер пишет: «Ни Юм, ни другие авторы, писавшие до меня на эту тему, не пытались отсюда (от невозможности оправдать переход от воспринятых к невоспринятым еще примерам) перейти к дальнейшему вопросу : можем ли мы считать несомненными «воспринятые примеры»? И действительно ли они предшествуют теориям?»
Это удивительно и может рассматриваться в качестве яркого выражения как исторической безграмотности большинства современных философов, так и низкого уровня их оценок, при котором подобные утверждения считаются историческим свидетельством и рассматриваются как проявление глубокой философской проницательности. Однако Ньютон корректировал феномены «сверху» (см. мою статью «Классический эмпиризм» [47]), Милль настаивал на необходимости обсуждать опыт, чтобы раскрыть его содержание и степень убедительности («О свободе»), у Гете ( Maximen and Reflexionen) мы находим утверждение: «Высшее заключается в понимании того, что всякое фактическое уже есть теория» ( Aus den anderjahren ), выражающее ту самую идею, которую Поппер приписывает себе. Больцман часто цитировал высказывание Гете о том, что опыт всегда есть лишь одна половина опыта ([10], с. 222). Сюда следует добавить, конечно, и замечание Маха о том, что «уже само название «впечатление» связано с некоторой односторонней теорией» ([117], е. 8: «Но так как в этом названии (ощущение) уже заложена некоторая односторонняя теория...» — подчеркнуто в оригинале). Все это было неизвестно последователям Венского кружка, которые хотели начать философию с начала и действительно начали с начала при ничтожном знании идей прошлого. Венский кружок разделял веру Просвещения в силу разума и также отличался почти полным невежеством в отношении прошлых достижений разума, поэтому неудивительно, что Поппер, оттесненный на периферию движения, каждую модификацию философии Венского кружка рассматривал как подлинное открытие. В этом отношении он был подлинным представителем венского нео-Просвещения. Однако он написал двухтомную работу о Платоне, Аристотеле, Гегеле и других авторах, которые попались ему на глаза, поэтому можно было бы ожидать от него какого-то знания их философских систем. Заметил ли он, что именно эмпирик Аристотель точно формулирует тот вопрос — «дальнейший вопрос», — постановку которого он приписывает себе? По-видимому, нет. И он критикует Аристотеля за «отсутствие понимания» ([132], т. 2, с. 2).
Читать дальше