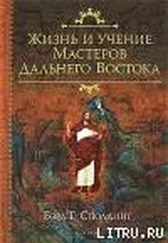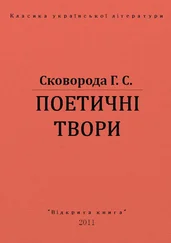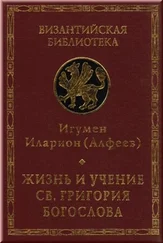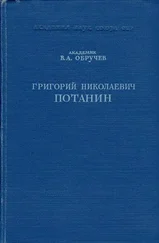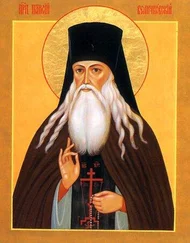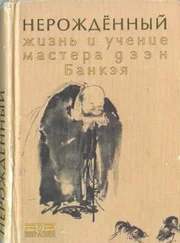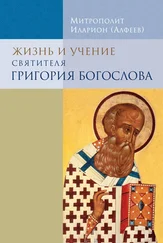Черты духовного родства между Сковородой и последующей русской мыслью идут еще дальше. Сковорода первый в новой философии заговаривает о «целомчеловеке», о том целостном духе, в котором отдельные эмпирические стороны душевной жизни (чувства, воля, разум) ставятся в гармоническую связь с ноуменальным единством и с метафизическими свойствами человеческой личности. В поисках этой всем духом возжажданной целостности Сковорода в морали приходит к глубокому формулированию принципа сродности. Весь пафос славянофилов, все их богословские, философские и политические идеи сознательно подчиняются двум верховным принципам: принципу целостности духа и принципу сродности. Первый принцип с особенной силой вдохновляет Киреевского, второй — Хомякова. Все дело славянофилов есть не что иное, как грандиозное применение ко всему русскому народу, ко всей русской истории того самого принципа сродности, который с таким сократическим упорством Сковорода прилагал в сфере индивидуальной по отношению к себе самому и ко всем, кто с ним приходил в соприкосновение. Мы имеем и промежуточные звенья. Так, в сочинении «Ольга Православная», вышедшем изпод пера какогото ученика Сковороды, приводится такая молитва Сковороды. «Отче наш, иже еси на небесех. Скоро ли ниспошлешь нам Сократа, который бы научил нас познанию себя, а когда мы себя познаем, тогда мы сами из себя вывьем науку, которая будет наша, природная. «Наша, природная наука», т. е. наше, отвечающее глубочайшим чертам народного духа самосознание, было заветной и священной мечтой славянофильства. Кроме того статья Хиждеу о Сковороде, напечатанная в 1835 году, по своему тону, воодушевлению и идеям явно упреждает славянофильство. Это показывает, между прочим, насколько славянофильство было явлением кровнорусским и насколько зависимость его от немецкой романтической философии носит характер временныйый и периферический. Тайным отцом славянофильства был Сковорода.
С принципом целостности, выставленным Сковородой, связана в русской мысли глубокая черта пренебрежительного отношения к кабинетному, отвлеченному знанию и постоянный протест против идола научности. В этом одинаково сходятся славянофильство, Соловьев и Толстой. Великий протест Толстого против «научничества» есть прямое продолжение мыслей Сковороды. Идея цельного знания обусловливает у Соловьева великолепную критику отвлеченных начал… Философская критика гегельянства и в лице его всякого рационализма и у славянофилов положительной своей основой имеет живую интуицию целостного духа, но первым сознательным глашатаем и философом целостности был Сковорода. Характерно, что можно констатировать совпадение и в деталях чрезвычайно существенных. Так, учение Сковороды о сердце как центре и целостном начале душевной жизни повторяется Юркевичем и становится у него основой первой в России глубокой критики Канта, повлиявшей на Соловьева, а через Соловьева отразившейся и на Л. М. Лопатине. И тут опять мы видим органический рост и плодотворное развитие тех самых идей, первые ростки которых находим у Сковороды.
Наконец, укажу еще на одну черту, менее показательную, но тем самым более важную. Мы видели, что Сковорода в высших моментах своего философского созерцания заговаривал о женственной сущности мира, о таинственном отношении его к Деве, превосходящей разум премудрых. Это прозрение есть глубочайшая основа новой чисто русской метафизики. В высших моментах своего творчества Достоевский загадочно заговаривает о том же. Марья Тимофеевна в «Бесах» по — наивному рассказывает: «Богородица что есть, как мнишь?» «Великая мать, — отвечаю, — упование рода человеческого». — «Так, — говорит, — Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. Соловьева можно назвать философом вечной женственности, до такой степени мистическое содержание «Трех свиданий» лежит в основе всего философского дела и есть скрытый фундамент не только его эротики, эстетики и позиции, но и гносеологии, метафизики и катастрофических «Трех разговоров». [54]
О кровной связи всего многочастного целого русской мысли со Сковородой свидетельствует и тот замечательный факт, что не только высшее моменты мысли Сковороды имеют свое продолжение в дальнейшей истории, но и низшие. Его гностицизм возрождается у Соловьева; его близорукость в понимании сущности зла расцветает теократическим искушением, которое с такою властью чаровало мысль Соловьева до конца 90–х годов. Бессознательное отталкивание Сковороды от Церкви, стоящее в противоречии с высшим разумом его же собственного мировоззрения, повторяется в невысказанной трагедии жизни Толстого. Этот великий гений внутренне надламывается от того же самого, что удерживало Сковороду от высшего просветления и не давало ему окончательно вспыхнуть и загореться вселенским светом.
Читать дальше