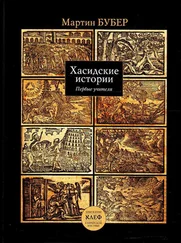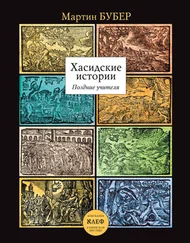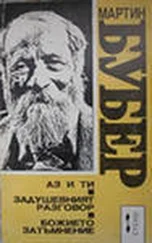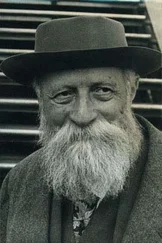Несколько лет (с 1904 по 1909 г.) Бубер посвятил изучению хасидизма, Собирая и пересказывая предания о его учителях и подвижниках. Хасидизм, впитавший в себя высочайшие достижения еврейской мистики, это, по словам "Убера, "каббала, ставшая этосом". Для него, в отличие от С. Дубнова и Г. Модема, чей подход к хасидской литературе носил строго научно-исторический характер, самым достоверным источником были именно легенды: "Легенда есть МиФ Я и Ты, призванного и призывающего, конечного, который входит в бесконечное, и бесконечного, который нуждается в конечном". (Die Legende des Baal bchem, Frankfurt am Mein, 1908. S. VI). А в "Хасидской вести", написанной сорок лет спустя, он говорит: "Поскольку хасидизм означает в первую очередь не
категорию учения, но категорию жизни, основным источником для нашего знания о нем являются его легенды, и только после них идет его теоретическая литература. Последнюю можно в известной степени рассматривать как комментарий к проживаемой жизни, первые же — как текст… Глупо возражать на это, что легенда не передает нам действительности хасидской жизни. Естественно, легенда — не хроника, но она правдивее хроники" {Buber M. Werke III. Schriften zum Chassidismus. Mimchen — Heidelberg, 1964. S. 760).
Погружение в стихию еврейского мистицизма сказалось и на языке философских сочинений Бубера: их стиль и терминология нередко становятся камнем преткновения для переводчиков. Когда он в зрелые годы стал писать на иврите, j по этому поводу шутили, что Бубер еще недостаточно хорошо его знает, чтобы писать на нем так же непонятно, как на немецком. Его мысли тесно в пределах 1 той или иной языковой структуры, она как бы "не совпадает" с тем языком, на котором он пишет. Особенно явно это обнаруживается в "Я и Ты", где Бубер сознательно отходит от общепринятых лексико-синтаксических норм и пользует- 1 ся архаичными конструкциями, непривычными для тех, кто незнаком с Лютеро- | вой Библией и писаниями средневековых мистиков. В сочетании с усложненной и зачастую нетрадиционной для немецкой речи структурой предложений и вдох- I новенным "пророческим" стилем отдельных пассажей, которые буквально заво- I раживают интерпретатора, соблазняя головокружительными безднами раскрыва- I ющихся смыслов, это создает текст столь насыщенный и многомерный, что! неудивительно, если вопрос о его "верном" прочтении внушает скепсис. Так, В. \ Кауфман в предисловии к своему переводу "Я и Ты" (этот второй по счету 1 перевод на английский язык, как и первый, сделанный Р. Г. Смитом в 1937 г. 1 и выдержавший несколько изданий, все же оставляет желать лучшего, поскольку | изобилует ошибками и обнаруживает явную тенденцию к упрощению) пишет: I "Не представляется невозможным даже то, что в некоторых местах текста Бубер] сам не был уверен в его точном значении. Одна из работ, написанных им 1 в последние годы жизни, — пространный ответ на статьи двадцати одного 1 критика (большинство критиков были настроены положительно), которые со- 1 ставили книгу, посвященную его творчеству и вышедшую сначала на немецком § (Martin Buber. 1963), а потом и на английском языке (The Philosophy of Martin j Buber. 1967). Его ответ, напечатанный в конце тома, содержит также обсуждение] книги "Я и Ты"; и здесь Бубер говорит: "В то время я писал то, что писал, будучи I охваченным всепоглощающим вдохновением. А то, что дарует такое вдохнове- 1 ние, уже нельзя изменить, даже ради точности. Ибо мы способны оценить лишь j то, что можем приобрести, но не то, что может быть утрачено". Так Бубер 1 наделяет собственный текст авторитетом и намекает на то, что он сам не смог бы \ передать всех его значений. "Ибо всякая попытка прояснить смысл неясных | фрагментов может уничтожить возникающие ассоциации. Должно быть понятно, I в каком положении находится переводчик!" (I and You, Scribner. New York, 1970. 1
P. 24–25).
Философские взгляды Бубера не свободны от противоречий, быть может, 1 именно в силу того, что философия была для него не наукой, а "категорией I жизни". Бубер не был ни академическим философом, ни профессиональным 1 теологом и меньше всего стремился к созданию собственной "системы". Он] говорил о себе: "У меня нет учения. Я лишь показываю нечто. Я показываю 1 действительность, то, чего не видно или видно слишком мало. Я беру того, И кто меня слушает, за руку и подвожу к окну. Я распахиваю окно и показываю 1 наружу. У меня нет учения, но я веду разговор" (цит. по: Internationales I Symposium. Band 1. S. 13).
Перевод выполнен В. В. Рынкевичем по изданию: Buber M. Ich und Du. I
Koln. 1966.
Часть первая
С. 16. Перевод слова Haltung (манера держать себя, выправка, поза, позиция, твердость, прочность и пр.) как "соотнесение", вопреки тому, что достаточно широкий спектр его значений все же органически связан с однокорневыми словами (halten — держать и Halt — поддержка, опора), которые сдерживают и ограничивают возможности его расширенного толкования, может показаться семантически не мотивированным и поэтому нуждается в обосновании. По мысли Бубера, Haltung — это не установка и не позиция, которая всегда есть результат, это то, что предшествует отношению, то, чем держится отношение, некое под-держание, то, что служит опорой со-отнесенности человека с миром, "ждущим" изречения "основного слова".
Читать дальше