Последнее внесюжетное единство романа Достоевского Комарович истолковывает монологически, даже сугубо монологически, хотя он и вводит аналогию с полифонией и с контрапунктическим сочетанием голосов фуги {12} . Под влиянием монологистической эстетики Бродера Христиансена он понимает внесюжетное, внепрагматическое единство романа, как динамическое единство волевого акта: «Телеологическое соподчинение прагматически разъединенных элементов (сюжетов) является т. о. началом художественного единства романа Достоевского. И в этом смысле он может быть уподоблен художественному целому в полифонической музыке: 5 голосов фуги, последовательно вступающих и развивающихся в контрапунктическом созвучии, напоминают "голосоведение" романа Достоевского. Такое уподобление, — если оно верно, — ведет к более обобщенному определению самого начала единства. Как в музыке, так и в романе Достоевского осуществляется тот же закон единства, что и в нас самих, в человеческом "я", — закон целесообразной активности. В романе же "Подросток" этот принцип его единства совершенно адэкватен тому, что в нем символически изображено: "любовь-ненависть" Версилова к Ахмаковой — символ трагических порывов индивидуальной воли к сверхличному; соответственно этому весь роман и построен по типу индивидуального волевого акта» [29].
Основная ошибка Комаровича заключается в том, что он ищет непосредственного сочетания между отдельными элементами действительности или между отдельными сюжетными рядами, между тем как дело идет о сочетании полноценных сознаний с их мирами. Поэтому вместо единства событий, в котором несколько полноправных участников, получается пустое единство индивидуального волевого акта. И полифония в этом смысле истолкована им совершенно неправильно. Сущность полифонии именно в том, что голоса здесь остаются самостоятельными и, как такие, сочетаются в единстве высшего порядка, чем в гомофонии. Если уже говорить об индивидуальной воле, то в полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль, совершается принципиальный выход за пределы одной воли. Можно было бы сказать так: художественная воля полифонии есть воля к сочетанию многих воль, воля к событию.
Единство мира Достоевского недопустимо сводить к индивидуальному эмоционально-волевому акцентному единству, как недопустимо сводить к нему и музыкальную полифонию. В результате такого сведения роман «Подросток» оказывается у Комаровича каким-то лирическим единством упрощенно-монологического типа, ибо сюжетные единства сочетаются по своим эмоционально-волевым акцентам, т. е. сочетаются по лирическому принципу.
Необходимо заметить, что и нами употребляемое сравнение романа Достоевского с полифонией имеет значение только образной аналогии, не больше. Образ полифонии и контрапункта указывает лишь на те новые проблемы, которые встают, когда построение романа выходит за пределы обычного монологического единства, подобно тому как в музыке новые проблемы встали при выходе за пределы одного голоса. Но материалы музыки и романа слишком различны, чтобы могла быть речь о чем-то большем, чем образная аналогия, чем простая метафора. Но эту метафору мы превращаем в термин «полифонический роман», так как не находим более подходящего обозначения. Не следует только забывать о метафорическом происхождении нашего термина {13} .
Адэкватнее всех основную особенность творчества Достоевского, как нам кажется, понял Б. М. Энгельгардт в своей работе «Идеологический роман Достоевского» [30].
Энгельгардт исходит из социологического и культурно-исторического определения героя Достоевского. Герой Достоевского — оторвавшийся от культурной традиции, от почвы и от земли интеллигент-разночинец, представитель «случайного племени». Такой человек вступает в особые отношения к идее: он беззащитен перед нею и перед ее властью, ибо не укоренен в бытии и лишен культурной традиции. Он становится «человеком идеи», одержимым от идеи. Идея же становится в нем идеей-силой, всевластно определяющей и уродующей его сознание и его жизнь. Идея ведет самостоятельную жизнь в сознании героя: живет собственно не он, — живет идея, и романист дает не жизнеописание героя, а жизнеописание идеи в нем; историк «случайного племени» становится «историографом идеи». Доминантой образной характеристики героя является, поэтому, владеющая им идея вместо биографической доминанты обычного типа (как, например, у Толстого и у Тургенева). Отсюда вытекает жанровое определение романа Достоевского, как «романа идеологического». Но это, однако, не обыкновенный идейный роман, роман с идеей. «Достоевский, — говорит Энгельгардт, — изображал жизнь идеи в индивидуальном и социальном сознании, ибо ее он считал определяющим фактором интеллигентного общества. Но это не надо понимать так, будто он писал идейные романы, повести с направлением и был тенденциозным художником, более философом нежели поэтом. Он писал не романы с идеей, не философские романы во вкусе XVIII века, но романы об идее. Подобно тому как центральным объектом для других романистов могло служить приключение, анекдот, психологический тип, бытовая или историческая картина, для него таким объектом была "идея". Он культивировал и вознес на необычайную высоту совершенно особый тип романа, который, в противоположность авантюрному, сентиментальному, психологическому или историческому, может быть назван идеологическим. В этом смысле его творчество, несмотря на присущий ему полемизм, не уступало в объективности творчеству других великих художников слова; он сам был таким художником и ставил и решал в своих романах, прежде и больше всего, чисто художественные проблемы. Только материал у него был очень своеобразный: его героиней была идея» [31].
Читать дальше
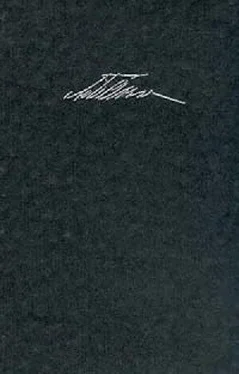

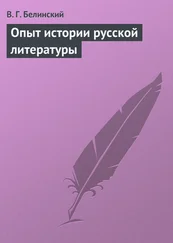
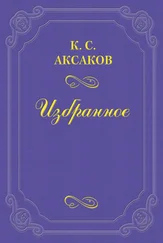




![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)
