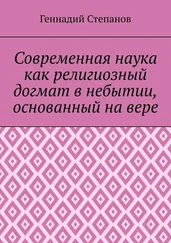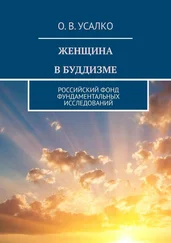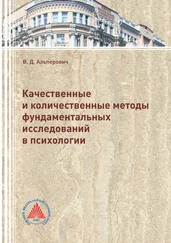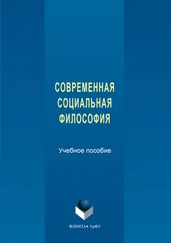Однако многочисленные эксперименты не продемонстрировали разницы скорости света ни по отношению к данной системе, ни по отношению к внешнему пространству. Таким образом, оба предположения оказались экспериментально не подтвержденными. Нельзя говорить, что тела при своем движении увлекают эфир, и нельзя говорить, что тела движутся в эфире, не увлекая его. Мы вернемся к этой коллизии немного позже, при характеристике теории относительности. Пока же отметим, что в конце XIX века эта ситуация внушала смутные опасения, но не давала повода для решительного отказа от эфира, не укладывавшегося в норму поведения, свойственную обычным телам.
В целом наука XIX века склонялась к мысли о законченной картине мира, к представлению о том, что эта картина мира завершена в ее фундаментальных основах. Английский физик Дж. Дж. Томсон утверждал, что науке осталось лишь уточнять детали, поскольку в основном человек уже знает, как устроен мир. Конечно, такой крайний взгляд не был общим. Многие понимали, что перед наукой бесконечный путь преобразования фундаментальных идей. Но и сам Томсон, говоря о безоблачном небе науки, указывал на два облака: затруднения теории теплового излучения и отсутствие изменения скорости света в движущихся телах. Из этих облаков и грянул гром. А пока он не грянул, наука XIX века могла к окончанию столетия предъявить весьма внушительную схему мироздания.
В основе этой схемы лежит идея сохранения основных законов бытия при переходе от одного звена иерархии вещества к другим, от атома к молекуле, от молекулы к макроскопическим телам, в частности к живому организму, затем к планетам, к солнечной системе, к звездам, к галактике.
В начале этой иерархии находится атом. Атомы считались твердыми шариками, обладающими различной массой и различными физическими и химическими свойствами. Было известно несколько десятков различных типов атомов, различных элементов, входящих в периодическую таблицу. На исходе столетия стали известны электроны – минимальные заряды электричества. Возникло представление о субатомах – частицах меньших, чем атом. Такими частицами служили электроны. Это, однако, не могло нарушить спокойствия. Принципиальная возможность дальнейшего перехода к телам «меньше атома» и «больше галактики» всегда допускалась. Еще в начале нашего столетия по поводу электронов повторяли старые концепции бесконечной иерархии, которая тянется в обе стороны, причем структура все больших включающих и все меньших включенных систем одна и та же.
Второе звено иерархии – молекула. В течение XIX века химия узнала о структуре громадного количества сложных веществ и определила состав их молекул. О природе сил, связывающих атомы в молекулы, знали так же мало, как о природе различий между атомами. Но об этом не слишком беспокоились. Наука могла идти вперед, не углубляясь в эти вопросы. То же можно сказать и о больших, включающих системах. Что касается живых организмов, то наука всесторонне изучила макроскопические законы естественного отбора, но остановилась перед проблемой наследственности и изменчивости организмов. Благодаря Г. Менделю стали известны некоторые законы наследственности, но природа их не была раскрыта. Теория Дарвина представлялась мощной демонстрацией универсальности классической науки. Она показала, что материя, состоящая из дискретных частей, обладающих свойствами притяжения и отталкивания и подчиняющихся в своем поведении законам классической механики, может эволюционировать и дойти до высокоорганизованных структур, до той целесообразности, которая всегда поражала людей при взгляде на органический мир.
Дальше простирались еще более высокие звенья иерархии – солнечная система, само Солнце, еще дальше – звезды, а еще дальше – внегалактические туманности, иные галактики. Этот мир казался царством Ньютона. Однако и здесь были некоторые недоразумения. Вселенная представлялась бесконечной, и в этом случае небесным телам угрожали бесконечно большие силы тяготения, действующие в бесконечной по протяженности, заполненной тяжелыми телами Вселенной. Свет бесконечных звезд должен был превратить небо в сплошную сверкающую пелену. Но идея конечности доступной исследованию Вселенной не возникала.
В целом XX век застал очень стройное и, казалось, достоверное в своей основе здание науки предыдущего столетия. В XX веке это здание не было разбито. Оно только зашаталось, и научная революция нашла для него новый фундамент, на котором старые знания получили ограниченное место. Это следует подчеркнуть. Научная революция не была очищением площадки для нового строительства. В науке не бывает катаклизмов, которые Ж. Кювье видел в прошлом Земли. История науки – непрерывный процесс. Н. Бор в начале нашего столетия, создавая модель атома, выдвинул принцип соответствия: при некоторых предельных условиях соотношения квантовой механики переходят в соотношения классической механики. Теория относительности Эйнштейна в случае медленных движений и процессов, при которых поглощаются или выделяются не слишком большие энергии, приходит к соотношениям механики Ньютона. Наука XX века подошла к классическому наследству как к совокупности теорий, уже не являющихся абсолютно справедливыми, абсолютно точными и абсолютно общими. Они становятся относительными и ограниченными, но получают более солидное обоснование.
Читать дальше