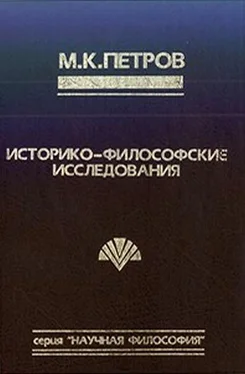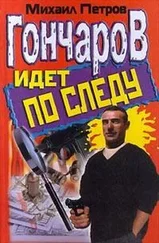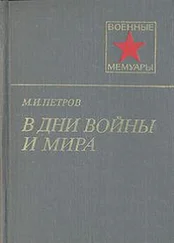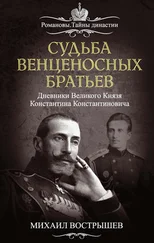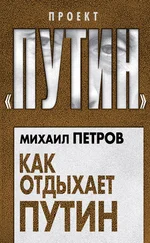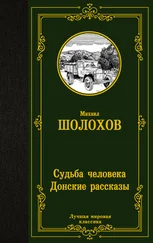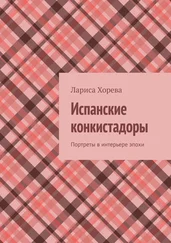Традиционным ходом здесь остается благородное истолкование - ход от любознательности, от аристотелевского "удивления" или от гегелевской нетерпимости духа к осознанной конечности, и само знание в рамках такого подхода становится скорее автономной и самодовлеющей благородной сущностью, нежели сущностью рабочей, нагруженной какими-то вполне определенными функциями. Нам кажется, что именно здесь, в рамках функционального анализа переходов: знание-навык; навык-знание, - открывается возможность универсального, не связанного только с развитой социальностью истолкования знания. Ничего особенно нового в таком подходе нет. Маркс и Энгельс рассматривали, например, возникновение осознания под формой преемственной связи с биологией: "Сознание необходимости вступить в сношения с окружающими индивидами является началом осознания того, что человек вообще живет в обществе. Начало это носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени; это - чисто стадное сознание, и человек отличается здесь от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт, или же что его инстинкт осознан" (20, с. 30). Именно эта мысль о преемственности биологического и социального дает возможность представить знание как функциональный социальный аналог биологического по генезису механизма трансляции.
В основе биологического механизма трансляции необходимых для жизни навыков лежит наследственность, биокод наследственности, позволяющий передавать навыки от родителей к потомку методом филогенеза, без выхода во внетелесную знаковую область, хотя и в биологическом варианте трансляции, особенно у птиц и млекопитающих встречаются довольно сложные институты "постредактирования" - обучения, онтогенетического доведения младенцев до кондиций, обеспечивающих выживание в данных условиях среды. Но в животном мире эти институты обучения, хотя они и отражают недостаточность филогенетического программирования, не отделены от особей в независимую от них, долгоживущую, рассчитанную на множество поколений "вечную" сущность, способную кодировать и сохранять на правах видовой ценности биологическую недостаточность генетического программирования - алгоритмы "постредакции", обучения необходимым для жизни навыкам, которые по тем или иным причинам не фиксируются биологическим кодом наследственности.
Возникновение такой долгоживущей постредакционной видовой сущности, опирающейся на нечто по отношению к смертным особям внешнее, внетелесное и бессмертное, и есть с этой точки зрения возникновение социальности и знания, вернее того способа компенсации биологической недостаточности, который только и может претендовать на категориальное понятие "знание", если ему приписывается ограниченный человеческим общением и поведением смысл. Различить в знании естественное, биологическое, человеческое на поведенческой базе практически невозможно: здесь человек - вещь среди вещей, равный среди равных, которому не приходится ожидать скидок и поблажек на человечность. И каким бы сложным ни представлялось репродуктивное поведение человека, любой фрагмент этого поведения и вся система таких фрагментов, если они образуют целостную систему, могут быть реализованы на нечеловеческом материале, на полупроводниковой глине, например (21). Различие возникает не в поведении, где все равны, а в трансляции, в общении, в способах существования видового, "вечного" и "бессмертного" на смертном и недолговечном субстрате особей и индивидов. Если трансляция замкнута на биокод или биокод достаточно гибок и подвижен, чтобы поглощать постредакцию, переводить онтогенез особей в филогенез, перед нами один способ трансляции, к которому неприменимо понятие "знание", если же рядом с биокодом возникает и независимым от биокода способом преемственно существует "социокод наследственности", который берет на себя задачи сохранения и воспроизводства в смене поколений, необходимых для преемственного существования вида, но не представленных в биокоде навыков, то здесь уже другой, социальный способ трансляции, к которому только и применимо понятие "знание", понятие компенсации биологической недостаточности небиологическими, знаковыми средствами.
Здесь сразу может возникнуть несколько вопросов. Во-первых, определение знания через биологическую недостаточность и социальности через небиологический код наследственности выглядит значительно шире человеческого (видового) определения. Практически любой вид, будь то киты, слоны, дельфины, пчелы, муравьи, если у него наблюдается парность и дополнительность биологического и внебиологического видового кодирования, мог бы претендовать на знание и на социальность. По существу так оно и есть. Мы, например, просто не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем, является ли социальность муравьев и пчел результатом своевременного, до выхода в знаковую область, поглощения онтогенетической постредакции филогенезом или же "съеденной" в биокоде социальностью, которая успела возникнуть, но оказалась настолько гибкой в своей стабильности, что биологическое нагнало и поглотило социальное. Мечта о естественной социальности такого поглощенного типа, которой особенно подвержены философствующие естественники, широко представлена и в философской, и в околонаучной, и даже в научно-философской литературе. Когда Иориш, например, пишет о "методе прямого и непосредственного воздействия на биологическую основу человеческой психики, физиологию и иные стороны биологии человека" (22, с. 148) и связывает эту увлекательную задачу с преобразованием "в нужную сторону психики индивидов 2, он, возможно, лишь повторяет то, чем развлекались в свое время ученые муравьи и пчелы, которым удалось добиться блестящих результатов.
Читать дальше