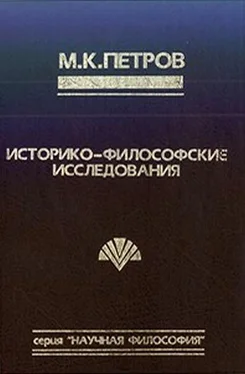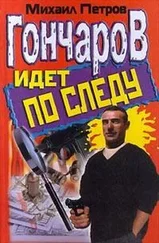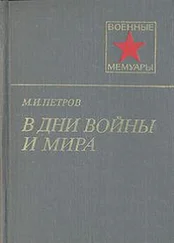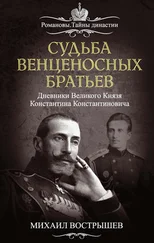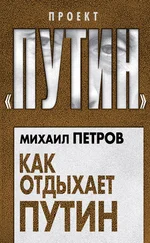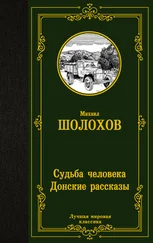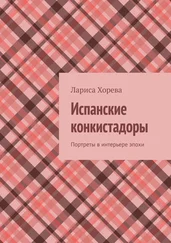Упрекая Спинозу, Вольфа и других за обращение к математике и подмену предмета, Гегель писал: "До сих пор философия не нашла своего метода. Она смотрела с завистью на систематическое сооружение математики и, как мы сказали, пробовала заимствовать у нее ее метод или обходилась методом тех наук, которые представляют собою лишь смесь данного материала, опытных положений и мыслей, или, наконец, выходила из затруднений тем, что грубо отбрасывала всякий метод. Но раскрытие того, что единственно только и может служить истинным методом философской науки, составляет предмет самой логики, ибо метод есть сознание о форме внутреннего самодвижения ее содержания" (3, с. 32-33). Гегель тут же уточняет принадлежность этого движения к науке, указывая на отрицание отрицания как на механизм преемственности такого движения: "Так как получающееся в качестве результата отрицание есть определенное отрицание, то оно имеет некоторое содержание. Оно есть новое понятие, но более высокое, более богатое понятие, чем предыдущее, ибо оно обогатилось его отрицанием или противоположностью; оно, стало быть, содержит в себе старое понятие, но содержит в себе более чем только это понятие, и есть единство его и его противоположности. Таким путем должна вообще образоваться система понятий - и в неудержимом, чистом, ничего не принимающим в себя извне движении получить свое завершение" (там же).
Мы напоминаем эти азы философских представлений о науке и о соотнесенности предмета философии (или существенной стороны этого предмета) с движением научного знания вовсе не для незамедлительного их показа под формой несостоятельности, ограниченности или беспредметности в новых условиях. Напоминание об этих обжитых философией истинах: наука - показатель успехов человеческого познания; наука - высшая форма познания; движение научного знания - предмет истории и теории познания, - нужно нам как исходный момент анализа того нового, что вносит научно-техническая революция в философскую проблематику.
Если попытаться дать общую характеристику сдвига и выделить возникающую под давлением научно-технической революции тенденцию смещения философского интереса, то в первом приближении достаточно будет указать на социализацию философской проблематики и на прогрессирующее типологическое различение в рамках социума двух сфер: общения и поведения со своими особыми структурами, механизмами и связями. Внешне это выглядит и часто критически анализируется как возрождение дуализма, возвращение к решенным, казалось бы, историей вопросам вроде роли и места "порождающих причин", познавательных тупиков Юма, антиномий Канта, но в лесах этого чисто внешнего попятного движения угадываются уже и контуры будущей постройки: над социально организованным поведением - репродуктивным скелетом определенности общества как "социума сотворенного", надстраиваются (или пристраиваются) хоромы общения - "социума творящего", ответственного за состояние, движение и обновление репродуктивной основы жизни общества.
Особенность этого процесса перестройки, использующего и строительный материал прошлого (проблема "творения", "сотворенности"), состоит в том, что за малыми исключениями (неотомизм, например) этот процесс идет, с одной стороны, почти без теологических включений - на правах единственного и неустранимого источника творчества привлекается смертный мыслящий индивид, - а с другой, с обязательной опорой на социальное опосредование (социализация, национализация, запись) как на способ отчуждения продуктов познавательной деятельности индивидов и даже их имен ("эпонимическая характеристика") в социальное достояние, в вечные социальные ценности. Социальное опосредование, не устраняя самостоятельность гносеологической проблематики, вводит в нее третий предельно широкий и вместе с тем достаточно определенный момент - социальную оформленность познания ("культура"), - то есть требует, скажем, не только объективной истинности, но и анализа социальной значимости познания, включенности его в данный исторический тип хранения, обновления и накопления социально необходимых знаний и репродуктивных схем, что в значительной мере трансформирует структуру, основные категории и понятия традиционной гносеологии, выделяя на правах внеисторического инварианта социальное знание, которое может быть получено и социализировано множеством способов, в частности и научным.
Поскольку социальное опосредование одна из центральных идей марксизма (анализ стоимости, истории), почти все течения современной философии и социологии развиваются либо с оглядкой на марксизм, либо в непосредственной к нему близости, что может вызывать в нашей среде широкий спектр реакций от искренних удивлений и даже обвинений в плагиате (см.: 4, с. 150-154) до не менее искреннего неприятия, способного в приступах пуританизма похоронить по первому разряду строгой словесности не только частные попытки решения, но и саму новую проблематику. Это обстоятельство требует ряда критических замечаний, чем мы займемся в конце статьи.
Читать дальше