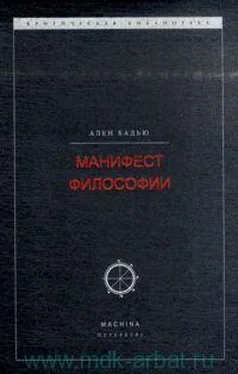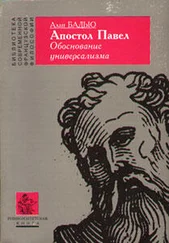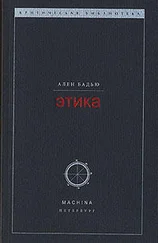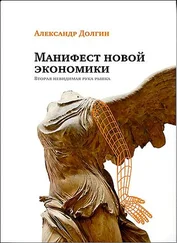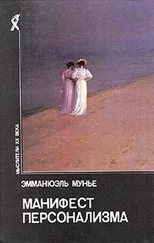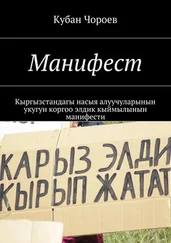A. Badiou, Deleuze. Hachette, 1997
Что, конечно же, не было вполне очевидно для непосвященной публики — см., например, относящиеся к Бадью страницы в едком, но наивном и метящем в совсем иные (около)философские цели памфлете: J.-E Raguet, De la pourriture, L'Insomniaque, 2000, p. 48–50; наиболее полный обзор полемики систем Делеза и Бадью см. в кн.: Е. Alliez. De l'impossibilité de la phénoménologie, Vrin, 1995, p. 81–87.
См. например, посвященные Бадью погромные страницы в статье É. Marty «Les derniers des intellectuels» ( Esprit 262, Splendeurs et misères de la vie intellectuelle (I), 2000, p. 151–154).
A. Badîou, L'Être et l'événement, Seuil, 1988.
Влияние Лакана, на Бадью трудно переоценить — не только как главного «теоретика» любви (о чем см. в тексте «Манифеста») и пророка математизации, но и как величайшего «антифилософа», — а это у Бадью почти что термин; в частности, он говорит, что в своем поколении философом, в отличие от антифилософов Лакана, Фуко и Деррида, был Альтюссер. При этом антифилософ, как и софист, является во многом необходимым оппонентом философа: «Лакан стал наставником любой будущей философии. Я называю современным философом того, кто нашел в себе смелость пересечь, не ослабев, антифилософию Лакана», — говорит, в частности, Бадью (A. Badiou, Conditions, Seuil, 1992, p. 196).
Мы не будем останавливаться здесь на достаточно радикальных изменениях, которые претерпела эта категория от первой «большой» книги Бадью «Теория субъекта» (1982) — где она, несмотря на эффектное приложение математического аппарата к лакановским моделям, в целом трактовалась в духе по-прежнему подшитого к политике «пост-марксизма», — до позднего определения субъекта как (в математическом смысле) группы — причем на альтернативном классическому теоретико-множественному языке теории категорий (см..: A. Badiou, Court traité d'antologie transitoire, Seuil, 1998. p. 165–177). По этому поводу см. также защищающую более традиционный (на наш взгляд — несколько редуцированный) «лаканизм» критику концепций Бадью в книге в целом симпатизирующего его системе, но не углубляющегося в ее математические аспекты Жижека: S. Zizek, The Ticklish Subject Verso> 1999, p. 127–243).
Мы переводим словом множественность термины Бадью la multiplicité и le multiple, следуя в этом за его последовательным отказом от традиционного математического термина множество (ensemble); причина подобного отказа состоит в том, что соответствующее французское слово по своему буквальному смыслу означает скорее совокупность, т. е. подчеркивает не множественность, а как раз отвергаемый Бадью аспект единства, целостности всего ансамбля, мотив счета-за-одно.
Мы же, со своей стороны, приведем в качестве некоторого пояснения два отрывка из авторского введения в этот трактат — самый общий посыл работы и общую же схему ее строения:
«Вместе с Хайдеггером мы утверждаем, что пере-определение философии как таковой утверждается через онтологический вопрос.
Вместе с аналитической философией согласны, что математика-логическая революция Фреге — Кантора закрепила за мыслью новые ориентации.
Мы принимаем, наконец, что не годится никакой концептуальный аппарат, если он не однороден теоретико-практическим ориентациям современной доктрины субъекта, каковая, в свою очередь, внутренне присуща практическим процессам (клиническим либо политическим)» (A. Badîou, L'Être et l'événement, p. 8)
«1. Бытие: множественное и пустое, или Платон / Кантор. Размышления 1–6.
2. Бытие: излишек, состояние ситуации. Единое/множественное, целое/часть, или б/с. Размышления 7-10.
3. Бытие, природа и бесконечное, или Хайдеггер/Галилей. Размышления 11–15.
4. Событие; история и сверх-одно, То-что-не-есть-бытие. Размышления 16–19.
5. Событие: вмешательство и верность. Паскаль/аксиома выбора Гельдерлин/дедукция. Размышления 20–25.
6. Количество и знание. Различимое (или конструктивное): Лейбниц/Гедель. Размышления 26–30.
7. Родовое: неразличимое и истина. Событие — П. Дж. Коэн. Размышления 31–34.
8. Вынуждение, истина и субъект. По ту сторону Лакана. Размышления 34–37» (ibid, р. 24).
Детальнее эта, как подчеркивает Бадью, философская категория, а не, скажем, историческая или литературно-эстетическая эпоха, обсуждается в статье A. Badiou, «L'âge des poètes», в сборнике La politique del poètes, Albin Michel, 1992, p. 21–38 (в том же сборнике можно найти и продолжение начатой во время обсуждения «Бытия и события» полемики с Лаку-Лабартом — см.: Ph, Lacoue-Laharthe, «Poésie, philosophie, politique», ibid., p, 39–63).
Читать дальше