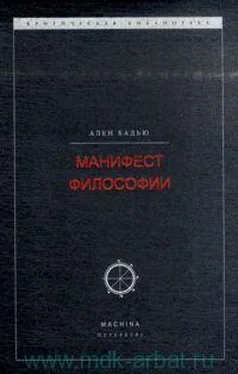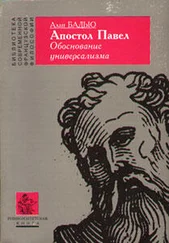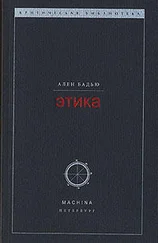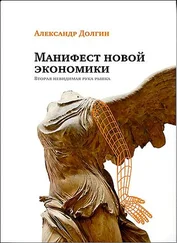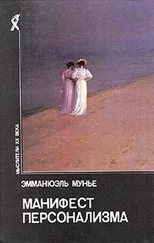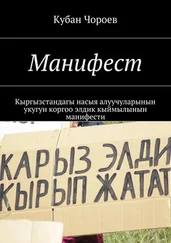На этом пути, провешенном в тридцати семи пространных «размышлениях» «Бытия и события», перемежающих изощренно технические, эзотерические на взгляд философа математические построения (на которые приходится не одна сотня страниц; особенно впечатляет, что к концу серии приложенных к основному тексту математических дополнений усидчивому читателю предлагается, наконец, и коэновское решение проблемы континуума) и философские трактовки отдельных фигур истории философии-трактовки, подчеркнуто выведенные из линейной исторической перспективы в панораму «временного всегда», — и предполагается возвести здание современной философии, но излагать, к тому же вкратце, столь сложную позитивную программу — дело неблагодарное [21] Мы же, со своей стороны, приведем в качестве некоторого пояснения два отрывка из авторского введения в этот трактат — самый общий посыл работы и общую же схему ее строения: «Вместе с Хайдеггером мы утверждаем, что пере-определение философии как таковой утверждается через онтологический вопрос. Вместе с аналитической философией согласны, что математика-логическая революция Фреге — Кантора закрепила за мыслью новые ориентации. Мы принимаем, наконец, что не годится никакой концептуальный аппарат, если он не однороден теоретико-практическим ориентациям современной доктрины субъекта, каковая, в свою очередь, внутренне присуща практическим процессам (клиническим либо политическим)» (A. Badîou, L'Être et l'événement, p. 8) «1. Бытие: множественное и пустое, или Платон / Кантор. Размышления 1–6. 2. Бытие: излишек, состояние ситуации. Единое/множественное, целое/часть, или б/с. Размышления 7-10. 3. Бытие, природа и бесконечное, или Хайдеггер/Галилей. Размышления 11–15. 4. Событие; история и сверх-одно, То-что-не-есть-бытие. Размышления 16–19. 5. Событие: вмешательство и верность. Паскаль/аксиома выбора Гельдерлин/дедукция. Размышления 20–25. 6. Количество и знание. Различимое (или конструктивное): Лейбниц/Гедель. Размышления 26–30. 7. Родовое: неразличимое и истина. Событие — П. Дж. Коэн. Размышления 31–34. 8. Вынуждение, истина и субъект. По ту сторону Лакана. Размышления 34–37» (ibid, р. 24).
. Посему, в отличие от «Бытия и события», на первый план в «Манифесте», цель которого — убедительно представить общий очерк всей этой амбициозной программы (каковая, напомним, состоит в том, чтобы восстановить систематическую философию на той же основе и примерно в тех же очертаниях, как то было сделано Платоном), выходит не позитивная, а, скорее, критическая составляющая системы Бадью: то, чем она отличается от подходов других мыслителей и в чем, на взгляд своего автора, должна исправить их ошибки и заблуждения. Меняется и метод подачи материала: место дедукции занимает непосредственная демонстрация, показ замещает доказательство. Подробно обсуждается основной постулат: сама философия не порождает истин, а лишь оперирует теми истинами, что предоставлены ей четырьмя ее (философии) «условиями»: матемой ( греч, знание, учение), поэмой, политическим изобретением и любовью; всякая истина либо научна, либо художественна, либо политична, либо, наконец, любовна, и задача философии — обеспечить определенную конфигурацию их общей совозможности. Здесь подробно описываются сциллы и Харибды швов, встретившиеся на пути в непростом философском плавании, попадаются и скупые намеки на сирен — софистов и антифилософов, — через пение которых необходимо пройти. Согласно «Манифесту», для нормального функционирования философии необходимо равноправие всех четырех определяющих ее условий, что на практике, т. е. в истории, имело место далеко не всегда. Ситуацию, когда одно из условий занимает главенствующее положение и подменяет, так или иначе ее подавляя, собой философию, Бадью называет швом. Основные примеры швов доставляет, начиная с Гегеля, XIX век: тут и «позитивистский» шов, подшивающий философию к ее научному условию (по сю пору господствующий в академической англосаксонской философии) политический шов марксизма, и различные их сочетания. Как реакция на них, согласно Бадью, пришел шов поэтический, первым провозвестником которого был Ницше, а главным глашатаем и символом — Хайдеггер; этот шов естественно продолжает то, что Бадью, возводя в ранг философской категории, называет в «Манифесте» «Веком поэтов» [22] Детальнее эта, как подчеркивает Бадью, философская категория, а не, скажем, историческая или литературно-эстетическая эпоха, обсуждается в статье A. Badiou, «L'âge des poètes», в сборнике La politique del poètes, Albin Michel, 1992, p. 21–38 (в том же сборнике можно найти и продолжение начатой во время обсуждения «Бытия и события» полемики с Лаку-Лабартом — см.: Ph, Lacoue-Laharthe, «Poésie, philosophie, politique», ibid., p, 39–63).
, — ситуацию, когда в условиях засилья научных и/или политических швов поэзия, отнюдь не намереваясь подменять собою философию, приняла некоторые из ее функций на себя. Век поэтов кончился вместе с последним из своих авторов, Паулем Целаном, однако в наследство от него остался наиболее свежий и тем самым куда более опасный, нежели окостеневшие позитивистский и марксистский швы, — шов поэтический, снять который и составляет сейчас первоочередную — и вполне практическую — задачу философии.
Читать дальше