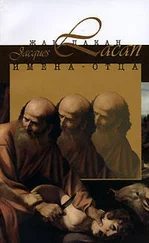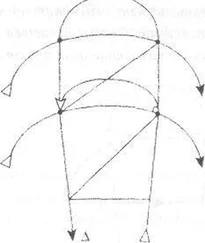Но чтобы не оказалась напрасной наша, психоаналитическая, охота, нам следует свести все к функции разрыва в дискурсе, и в первую очередь того, что кладет рубеж между означающим и означаемым. Интересующий нас субъект дает о себе знать именно здесь, ибо связав себя со значением он оказывается под знаком пред-сознания. Это ведет к парадоксальному выводу, что дискурс в психоаналитическом сеансе ценен лишь своими перерывами и запинками; так бы оно и было, если бы сам сеанс не представлял собой разрыва в дискурсе ложном — точнее, в том, что дискурс реализует, опустошаясь в качестве речи и превращаясь в подобие той стертой монеты Малларме, что переходит из рук в руки «в молчании».
Только этот разрыв в означающей цепи и может подтвердить, что структура субъекта есть нарушение непрерывности в Реальном. И там, где лингвистика приписывает означающему детерминирующую по отношению к означаемому роль, психоанализ демонстрирует истинность этого отношения, проделывая в детерминантах своего дискурса смысловые «дыры». Вот путь, на котором проводится в жизнь чеканная как досократический афоризм заповедь Фрейда: Wo Es war soll Ich werden [104]— заповедь, которую мы уже не раз комментировали, но теперь попробуем рассмотреть под несколько новым углом зрения. Под углом зрения грамматики: там, где это некогда было [ l à ou ce fut], что это значит? Будь оно лишь тем «оно», что некогда было (глагол «быть» стоит здесь в аористе), как мог бы я явиться туда, чтобы заявив [énoncer] об этом теперь, обрести бытие именно там?
Но по-французски мы скажем «Là ou c'était…» [там, где это было…]. Воспользуемся преимуществом недвусмысленного французского имперфекта. Там, где это было вот-вот [à l'instant même], было лишь краткий миг между исчезновением, еще бросающим свой отсвет, и неудачной попыткой появиться на свет — там, ценой исчезновения из мною сказанного [mon dit], могу явиться на свет [venir à l'être] Я.
Акт высказывания [renonciation], себя разоблачающий [dénonce], высказанное [énoncé], от себя отрекающееся [se renonce], рассеивающийся мрак невежества и возможность, себя утрачивающая — что это, как не след того, что непременно должно быть, чтобы из бытия выпасть?
В сновидении, пересказанном Фрейдом в статье, «Формулировки двух принципов психического события» [105], произносится — с пафосом, сопутствующим явлению покойного отца в виде призрака — фраза: он не знал, что был мертв.
Мы уже пользовались этой фразой как предлогом, чтобы проиллюстрировать отношение субъекта к означающему с помощью высказывания [enunciation], все существо которого трепещет в унисон тем, что в нем самом высказано [énoncé].
Если фигура покойного отца сохраняется лишь благодаря тому, что от нее утаивают истину, о которой она находится в неведении, как обстоит дело с Я , от которого ее сохранение зависит? Он не знал… Еще немного, и он узнал бы — не дай бог! Чем ему знать, лучше уж Я умру. Именно так Я и прихожу туда — туда, где то было: кто же знал, что Я был мертв?
Бытие не-сущего — вот как происходит Я в качестве субъекта, сопряженного с двойной апорией истинного пребывания, упраздняемого собственным знанием, и дискурса, в котором существование поддерживается смертью.
Не сопоставить ли нам это бытие с тем, которое измыслил в качестве субъекта Гегель — будучи субъектом, рассуждающим об истории с позиций дискурса абсолютного знания? Вспомним, что, по собственному его признанию, Гегель испытал при этом искушение безумием. И не состоит ли наш путь в том, чтобы преодолеть это искушение, чтобы дойти до истины о тщете этого дискурса?
Но развивать учение о безумии мы здесь не станем. Весь этот эсхатологический экскурс предпринят нами лишь с тем, чтобы указать на бездну, разделяющую два отношения субъекта к знанию — гегелевское и фрейдовское.
А также показать, что непреодолимость этой бездны коренится в различии способов, которыми действует в них диалектика желания. Ибо у Гегеля именно на желание (Begierde) возложена миссия по обеспечению той минимальной связи субъекта с древним, донаучным познанием, которая необходима для того, чтобы истина оставалась реализации знания имманентной. Гегелевская «хитрость разума» заключается в том, что субъект с самого начала и до самого конца знает, чего он хочет.
Вот тут-то Фрейд и возвращает суставу, сочленяющему истину и знание, чреватую столькими революциями подвижность. Подвижность, обусловленную тем, что желание связано здесь с желанием Другого, но так, что в самом узле этом живет желание знать.
Читать дальше
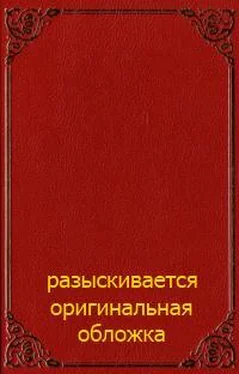
![Николай Леонов - Буква и цифра [сборник]](/books/32973/nikolaj-leonov-bukva-i-cifra-sbornik-thumb.webp)