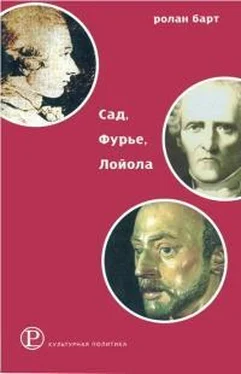И вот, несмотря на преобладание картин, этот раскол существует в садовском тексте и, как представляется, с той же целью. Ведь «группе», которая представляет собой как бы фотограмму разврата, противостоит то тут, то там подвижная сцена. Словарь, перед которым ставится задача обозначить это колыхание группы (по правде говоря, преображающее ее философскую природу), весьма обширен (исполнять, следовать, видоизменять, нарушаться, расстраиваться). Как известно, такая «функционирующая» сцена есть не что иное, как бессубъектная машина, потому что в ней присутствует даже автоматический стопор («Минский подошел к сидящему на корточках созданию, потрепал его по ягодицам, укусил их, и тут же все женщины выстроились в шесть рядов»). Перед живой картиной — а живая картина есть как раз то, перед чем я нахожусь, — по определению, согласно самой цели жанра, имеется некий зритель, фетишист, перверт (неважно — Сад, рассказчик, персонаж или читатель). Зато в движущейся сцене этот субъект, покидая кресло, галерку, партер, проходит мимо рампы, входит в экран, воплощается во времени, в вариациях и разрывах акта похоти, словом, играет в свою игру: таков переход от представления к труду. (Для Сада существует смешанный жанр, живая картина — для читателя, сцена — для партнеров: этакая гигантская барочная синтагма, представляющая нам в чрезвычайно вероломном эпизоде Нуарсея с его приспешниками, закутанными в невообразимые меха и заставляющими подпрыгивать от трескучего мороза маленькую Фонтанж, которую они забрасывают разными предметами и секут длинными хлыстами в замерзшем бассейне). Переходное историческое место, садовское письмо содержит подобное двойное постулирование. То оно представляет живую картину, соблюдает идентичность классической живописи и классического письма, ставящего перед собой задачу лишь описывать то, что уже было изображено и что оно называет «реальным»; оно пользуется этим уже готовым референтом, чтобы отобразить его архитектуру (справа/слева), цвета, отношения, оттенки, свет, «кисть». То оно выходит за рамки представления, репрезентации: будучи не в силах запечатлеть (увековечить) то, что движется, видоизменяется, нарушается, оно утрачивает способность к описанию и теперь может лишь ссылаться на функционирование, давать его родовой шифр: говорить «сцена работает» означает уже не описывать, но повествовать. Тем самым мы видим двойственность классического письма: будучи фигуративным, оно может лишь задавать пространственно расположенные объекты и сущности, причем объект искусства (живописный, литературный) является тогда непрестанным возобновлением отношений между этими объектами, т. е. композиции; словом, оно не может описывать работу; чтобы стать «модернистским», для этого письма следует изобрести совершенно иную языковую деятельность, нежели описание, и перейти, как того желал Малларме, от живой картины к «сцене» (к «сценографии»).
Когда-то существовала разновидность музыкальных шкатулок, наилучшими специалистами по которым были швейцарские мастера, — «механические картины»: совершенно классические живописные произведения, в которых, однако же, какой-нибудь элемент мог оживать при помощи механики: это были стрелки часов на деревенской колокольне, которые двигались, или фермерша, передвигавшая ногами, или корова, наклонявшая голову, чтобы щипать траву. Это слегка архаическое состояние и есть состояние садовской сцены: это живая картина, где что-то начинает шевелиться; к ней спорадически добавляется движение, зритель примыкает к ней не через проекцию, но посредством вторжения; и тогда эта смесь фигуры и работы становится весьма современной: конечно, театр пытался спустить актеров в зал, но этот прием смехотворен; скорее, следует вообразить противоположное движение: некую большую эротическую картину — продуманную, имеющую композицию, вставленную в оправу, освещенную, где наиболее сладострастные фигуры были бы представлены через саму материальность тел, а вместо того, чтобы один из актеров выпрыгивал в зал, вульгарно провоцируя зрителя, именно зритель выходит на сцену и присоединяется к общей позе: «Какая восхитительная группа!» — воскликнула Дюран, создавая тем самым живую картину («Жюльетта и крючники»), но она не преминула добавить, преобразуя картину в производство: «Ну-ка, подруга… давай присоединимся к картине, составив один из ее эпизодов»; совокупность — сцена и картина — будет написана, и при этом будет чистым письмом; образ, открытый для вторжения труда: дело в том, что с момента, когда исчезает фигурация, в образ начинает вписываться труд (таково в целом приключение не фигуративной живописи и Текста).
Читать дальше