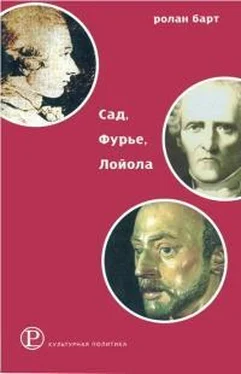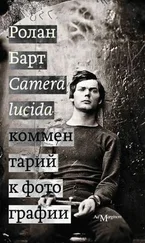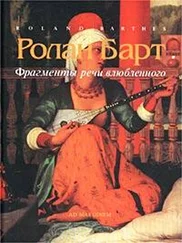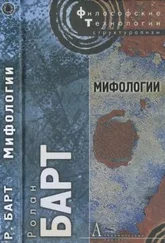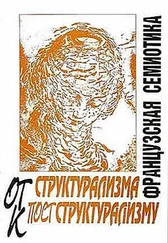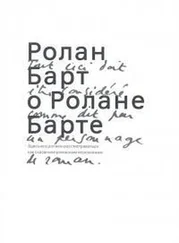Если тем самым равенство свершается ценой труда, о котором нам рассказывают «Упражнения», то как божество, о котором идет речь, будет склонять коромысло весов, маркируя один из термов выбора? «Упражнения» представляют собой книгу вопроса, а не ответа. Чтобы получить некоторое представление о формах, какие может принять знак, запечатленный Богом на весах, следует обратиться к «Духовному дневнику»; там мы найдем набросок божественного кода, элементы которого Игнатий отмечает с помощью целого репертуара графических знаков, впрочем, пока не дешифрованных полностью (инициалы, точки, знак // и т. д.). Эти божественные проявления — как можно ожидать от поля, где господствуют фантазмы, — устанавливаются, главным образом, на уровне тела, того фрагментированного тела, сама фрагментация которого представляет собой именно путь призрака. Прежде всего, к божественным проявлениям относятся слезы; мы знаем важность дара проливать слезы в христианской истории; для Игнатия эти весьма материальные слезы (нам говорят, что его черные глаза были всегда чуть с поволокой из-за того, что он плакал) образуют подлинный код, материя которого дифференцирована по знакам, в зависимости от времени их появления и от их интенсивности 33 . Впоследствии начинается спонтанный прилив речевой способности, loquèle (природа которого нам, по правде говоря, известна слабо). Еще имеется то, что можно было бы назвать кинестезическими ощущениями, разлитыми по телу и «произведенными в душе Святым Духом» (Игнатий называет их благочестивостями ): имеются в виду эмоции восторга, спокойствия, веселья; чувства теплоты, света или приближения. Наконец, бывают непосредственные теофании: посещения, локализованные между «верхом» (местопребывание Троицы) и «низом» (молитвенник, формула), и видения, многочисленные в жизни Игнатия, которые зачастую приходят, чтобы подтверждать принятые решения.
Между тем, вопреки их кодификации, ни одна из этих эмоций не является де-юре решающей. Кроме того, мы видим, что Игнатий (в «Дневнике», где речь шла о том, чтобы получить ответ Бога относительно весьма конкретного вопроса об уставе иезуитов) ждет этих эмоций, пытается контролировать, учитывать, подсчитывать их, стараться их спровоцировать, и даже проявлять нетерпение по поводу того, что ему не удается добиться от них несомненной маркированности. Остается лишь один выход из этого диалога, в котором божество говорит (ибо эмоций много), но ничего не маркирует: выход состоит в том, чтобы оставлять в подвешенном состоянии далее маркированность последнего знака. Это последнее чтение, окончательный и трудный плод аскезы, приводит к почтению, к почтительному признанию молчания Бога, когда согласие дается по отношению не к знаку, а к промедлению дать знак. Прослушивание превращается в ответ на само себя, а вопрошание перестает быть «подвешенным» и становится как бы утвердительным; вопрос и ответ входят в состояние тавтологического равновесия: оказывается, что божественный знак целиком обнаруживается в прослушивании вопроса. И тогда мантика замыкается, так как, переворачивая нехватку от одного знака к другому, ей удается включить в свою систему то пустое и, однако же, значащее место, которое называют нулевой ступенью знака: сведенная к значению, божественная пустота больше не может угрожать полноте, сопрягаемой со всяким закрытым языком, искажать или децентрировать таковую полноту.
1. Однажды меня пригласили поесть кускус 1 с прогорклым маслом; эта прогорклость полагалась по рецепту; в некоторых регионах прогорклость для кускуса обязательна. Однако же, то ли из предрассудка, то ли из-за отсутствия привычки, то ли из-за нетерпимости относительно пищеварения, прогорклость мне едва ли по вкусу. Что делать? Конечно же, есть кускус, чтобы не обижать хозяина, но кончиками губ, чтобы не обижать осознанность моего отвращения (ведь для отвращения достаточно немного стоицизма). На этом трудном обеде мне мог бы помочь Фурье. С одной стороны, интеллектуально он убедил бы меня в трех вещах: первая — то, что прогорклость кускуса никоим образом не является досужим, пустячным или тривиальным вопросом, и что спорить о ней не более смешно, чем спорить о пресуществлении 2 ; вторая — то, что силой заставляя меня лгать о моих вкусах (или о моем отвращении), общество показывает свою лживость, т. е. не только лицемерие (что банально), но и порочность социального механизма с неполадками в системе передач; третья — то, что это самое общество могло бы успокоиться, только если бы оно гарантировало (но как? Фурье хорошо объяснил это, но, надо признать, объяснение не заработало) мне возможность предаваться моим маниям, даже если бы они были «причудливыми» или «малозначительными», как, например, мании любителей старых кур, мании «пожирателей мерзостей» (как, например, у астронома Лаланда, который любил поедать живых пауков), мании сектантов масла, бергамота и красноватых груш, мании пяткочесателей или старого сентиментального пупсика 3 . С другой стороны, практически — Фурье сразу же мог положить конец моему смущению (быть раздираемым между вежливостью и нелюбовью к прогорклости), оторвав меня от обеда (за которым я, к тому же, остался бы сидеть прикованным несколько часов, а ведь терпеть этого не надо, и Фурье протестовал против терпения) и пригласив меня в группу «антирансистов» 4 , где я мог бы вволю поесть свежего кускуса, никого не раздражая, — что не мешало бы мне иметь наилучшие отношения с сектой «рансистов» 5 , которых я отнюдь не считал бы ни любителями фольклора, ни чуждыми, ни странными, если бы речь шла, к примеру, о большом турнире, на котором сторонники кускуса отстаивали бы «тезис», а жюри, состоящее из гастрософов, решало бы относительно превосходства прогорклого над свежим (чуть было не сказал — над нормальным; но для Фурье — и в этом его победа — нормальности не существует 6 ).
Читать дальше