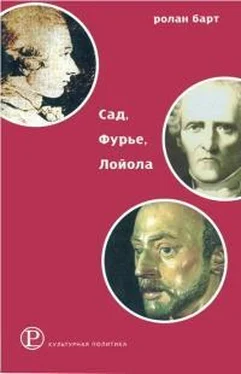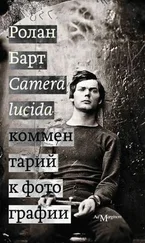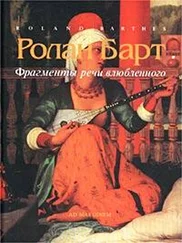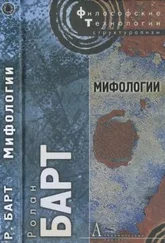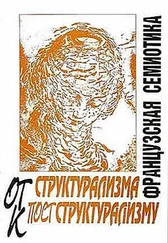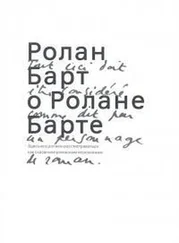И как раз согласно этому негативному смыслу отталкивания — по крайней мере, в первый раз — необходимо интерпретировать игнатианское воображение. Здесь следует отличать воображаемое от воображения. Воображаемое можно понимать как совокупность внутренних представлений (в расхожем смысле), или же как поле предательства образа (какой смысл мы находим у Башляра и в тематической критике), или еще как незнание субъектом самого себя в момент, когда он берет на себя задачу говорить, заполняя свое Я (такой смысл слова «воображаемое» у Ж. Лакана). И вот оказывается, что воображаемое Игнатия весьма бедно во всех этих смыслах. Сеть образов, каковой он спонтанно распоряжался (или которую он предлагает упражняющемуся), имеет почти никакого значения, так что вся работа «Упражнений» состоит в том, чтобы снабдить образами человека, от природы ими обделенного; производимые с большим трудом, благодаря ожесточенному стремлению, эти образы остаются банальными скелетоподобными: если необходимо «вообразить» ад, это будут (воспоминания о мудрой системе образов) пожары, завывания, сера, слезы; нигде не видно тех путей преображения, тех «аллей грез», какими Башляр умел оснащать свою тематику; у Игнатия никогда не встречается ни одной из тех субстанциональных сингулярностей, тех сюрпризов со стороны материи, какие мы находим у Рейсбрука 7 или у Иоанна Креста; Игнатий весьма стремительно заменяет своим интеллектуальным шифром описание воображаемой вещи: Люцифер, конечно же, сидит за своего рода «громадной кафедрой из огня и дыма», но в остальном его вид просто «ужасен и устрашающ». Что же касается игнатианского Я, по крайней мере в «Упражнениях», то у него нет ни малейшей бытийной ценности, оно никоим образом не описывается, не предицируется, его упоминание чисто транзитивно, императивно («как только я просыпаюсь, возвратить меня в здравую память…», «задержать мои взгляды», «лишить меня всякого света» и т. д.); поистине это шифтер 8 , идеально описываемый лингвистами, которому его психологическая пустота, существование только в оборотах речи обеспечивают своего рода блуждание в неопределенных личностях. Словом, у Игнатия нет ничего напоминающего сокровищницы образов, разве что риторика.
И насколько ничтожно воображаемое Игнатия, настолько мощным (неустанно культивируемым) является его воображение. Под этим словом, которое мы будем воспринимать во всей полноте активного смысла, каковой оно могло иметь в латыни, следует понимать энергию, позволяющую произвести язык, единицы которого, разумеется, будут «подражаниями», но отнюдь не образами, возникающими и накапливающимися где-то в личности. Будучи намеренной деятельностью, энергией слова, производством формальной системы знаков, игнатианское воображение, стало быть, может и должно иметь, прежде всего, апотропеическую 9 функцию; в первую очередь, это сила, дающая возможность отталкивать чуждые образы; подобно структурным правилам языка — каковые не являются правилами нормативными — оно формирует некое ars obligatoria 10 , фиксирующее не столько то, что следует воображать, сколько то, что невозможно воображать — или то, что невозможно не воображать. Именно эту негативную способность следует признавать, прежде всего, по основополагающему акту медитации, каким является концентрация: «созерцать», «фиксировать», «преломлять себе при помощи воображения», «помещать себя перед лицом предмета» — это, прежде всего, исключать, это даже исключать непрерывно, как если бы — в противовес видимости — ментальная фиксация предмета никогда не могла поддерживать позитивную эмфазу, но могла быть лишь постоянно существующим остатком ряда активных исключений, совершаемых благодаря бдительности: чистота, одиночество образа представляет собой саму его сущность, так что Игнатий указывает, как на наиболее труднодостижимый атрибут образа, на время, в течение которого он должен выдерживаться (в продолжение прочтения трех молитв «Отче Наш», трех молитв «Богородица» и т. д.). Слегка варьируемой формой этого закона исключения является обязательство, данное упражняющимся, с одной стороны для того, чтобы занять все его органы чувств (зрение, обоняние и т. д.), последовательно посвящая их одному и тому же субъекту, — а с другой стороны свести все незначительные явления его повседневной жизни к одному-единственному языку, на котором следует говорить и код которого Игнатий стремится установить: таковы бренные потребности, каких не может избежать упражняющийся, таков свет, такова погода, таково питание, таково одевание — из всего этого следует «извлечь выгоду», чтобы превратить в предметы образа («Во время приема пищи созерцать Господа нашего Христа, как если б мы видели его трапезу с его Апостолами, как если бы мы видели его манеру пить, смотреть, говорить, и стараться подражать ему»), согласно своего рода тоталитарной экономии, когда всё, от случайного до пустякового и тривиального, должно быть использовано повторно: подобно романисту, упражняющийся есть «тот, для кого ничто не утрачивается» (Генри Джеймс). Все эти подготовительные протоколы, изгоняя с поля уединения языки мирские, досужие, физические, естественные, словом — иные языки, имеют целью реализовать гомогенность конструируемого языка, словом — его уместность: они соответствуют речевой ситуации, каковая не является внутренней по отношению к коду (до сих пор лингвисты почти не изучали это явление), но без которой конститутивная двусмысленность языка достигла бы порога недопустимости.
Читать дальше