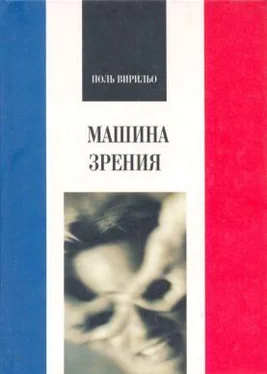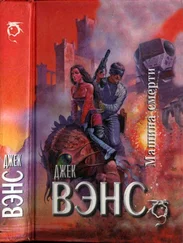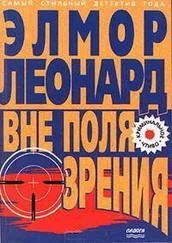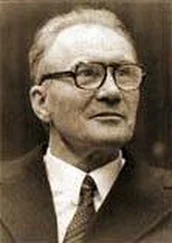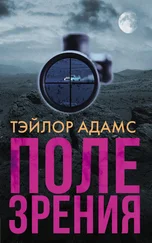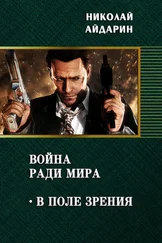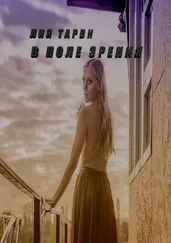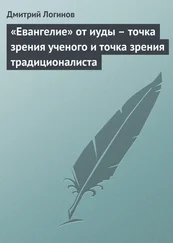Уже в 1916 г., в ходе первой в истории крупной войны с использованием информационных средств, доктор Гюстав Лебон замечал, что «если старая психология рассматривала личность как нечто весьма определенное, мало подверженное изменениям, […] то теперь этот человек, наделенный устойчивой личностью, кажется сказкой». [24] Lebon G. Enseignements psychologiques de la guerre européenne. Paris: Flammarion, 1916.
И, глядя на непрерывное преображение пейзажей войны, он заключал, что в прошлом эта кажущаяся устойчивость личности была в немалой степени обязана постоянству жизненной среды.
Однако о каком постоянстве и о какой другой среде идет речь? Не о той ли среде, которую описывает Клаузевиц, — о поле боя, где, перейдя некоторый порог опасности, рассудок перестраивается! Нет, скорее о безукоризненно видимой среде, прямо-таки прочесываемой оптическим арсеналом от прицелов огнестрельного оружия — пушек, ружей, пулеметов, применяемых с беспримерным размахом, — до камер и устройств моментального наведения с воздуха, вызывающих дематериализацию образа мира.
Известно, что слово «пропаганда» происходит от латинского выражения propaganda fide, что означает «распространение веры». И тут надо сказать, что 1914 г. был не только годом физической мобилизации миллионов людей на поля сражений; вследствие апокалиптической дезорганизации восприятия он обозначил и поворот другого рода, панический момент, когда массы американцев и европейцев перестали верить своим глазам, когда их перцептивная вера оказалась порабощенной этой технической чертой доверия — зрительным радиусом орудия прицела. [25] Позднее Жан Руш напишет о русском кинематографисте: «Киноглаз — это взгляд Дзиги Вертова […] с немного нахмуренной левой бровью, сильно втянутым, чтобы не мешал смотреть, носом, открытыми на 3,5 или 2,9 мм зрачками, тогда как фокус устремлен в бесконечность, к точке головокружения… за солдат в атаке»… За какие-то десять лет мы потеряли «эту смутную перцептивную веру, которая обращается с вопросом к нашей бессловесной жизни, эту предшествующую рефлексии смесь мира и нас самих» (Merleau-Ponty M. Le visible et l'invisible. Paris: Gallimard, 1964).
Немного позже режиссер Жак Турнёр подтвердит: «В Голливуде я быстро понял, что камера никогда не видит всего: я вижу все, а камера — только фрагменты».
Но что можно увидеть, когда взгляд, порабощенный этим прицельным аппаратом, оказывается приведен к почти непреодолимой структурной неподвижности? Видны теперь лишь моментальные фрагменты, выхватываемые циклоповым глазом объектива, и в результате взгляд, утрачивая субстанциальность, становится акциденталъным, случайным. Вопреки долгим дискуссиям вокруг проблемы объективности ментальных и инструментальных образов революционная смена режима зрения не была воспринята со всей серьезностью, и слияние/смешение глаза и объектива, переход от видения к визуализации легко вошли в привычку. По мере того как человеческий взгляд застывал, терял данные ему от природы быстроту и чувствительность, скорость фокусировки, наоборот, неуклонно росла. Сегодня профессиональные фотографы, как, впрочем, и любители, чаще всего довольствуются фотоочередями, полагаясь на скорость и количество фиксируемых аппаратом кадров не жалея пленок и предпочитая быть свидетелями скорее собственных фотографий, чем какой бы то ни было реальности. Жак-Анри Лартиг, который называл объектив глазом своей памяти, не нуждался при съемке в каком-либо наведении: он знал не глядя, что увидит его «Лейка», даже если держал ее на вытянутой руке; фотоаппарат, таким образом, с успехом компенсировал как движения глаза, так и перемещения тела.
Сокращение спектра мнезического выбора, вызываемое этой зависимостью от объектива, оказалось зародышем, в котором сформировалась моделизация зрения, а вместе с нею — и стандартизация взгляда во всем разнообразии ее аспектов. Благодаря работам об условных рефлексах, — например трудам Торндайка и Мак-геча (1930–1932 гг.), — появилась уверенность в том, что для воссоздания определенного атрибута-цели не обязательно пробуждать целую совокупность атрибутов, так как один-единственный атрибут может действовать независимо, что, кстати, проливает новый свет на часто поднимаемый вопрос трансситуационного тождества ментальных образов . [26] См. работы Уоткинса и Талвинга: Episodic memory: when recognition fails // Psychological Bulletin. 1974.
С начала XX века поле восприятия европейца оказалось заполоненным некими знаками, изображениями, логотипами, которые множились на протяжении двадцати, тридцати, шестидесяти лет в отсутствие какого-либо вразумительного контекста, словно хищные рыбы в опустошаемых ими зараженных прудах. Эти геометрические торговые марки, эти заглавные буквы, гитлеровская свастика, силуэт Чаплина, синяя птица Магритта и карминовые губы Мэрилин Монро — эта паразитическая назойливость не поддается объяснению одной лишь силой технической воспроизводимости, о которой так часто говорили еще в XIX веке. На самом деле мы оказались перед логическим завершением системы, на протяжении нескольких веков отдававшей ключевую роль быстроте техник зрительной и речевой коммуникации, — системы интенсификации сообщения.
Читать дальше