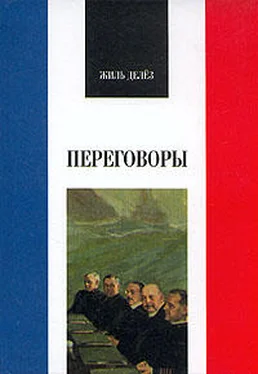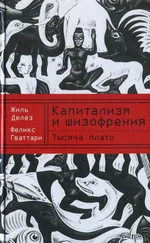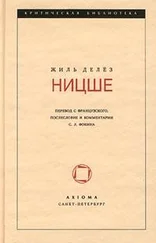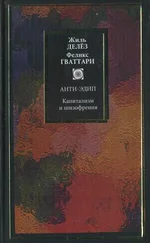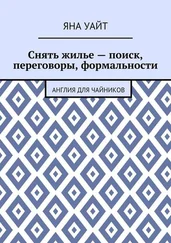Однако уже неоднократно обращали внимание на то, что все эти концепты Делёз подвергает радикальному переосмыслению. В созданном им концептуальном пространстве они «инфицируют» друг друга, обмениваются своей эвристической энергией, гипостазируются в качестве самостоятельных понятийных инстанций. У Фуко же они всегда апплицированы к конкретной методологической программе, т. е. несамодостаточны. Получается так, что, являясь продолжателем Фуко, Делёз все же не последователь в классическом смысле этого слова, он не тот, кто применяет к новым объектам методологические парадигмы «штифтера». Скорее наоборот, именно Фуко в своих генеалогических и археологических изысканиях апробирует все эти концепты, а об их собственной экспликации заботится уже Делез. Такое разделение труда можно было бы принять, если бы не очевидный и для Фуко и для Делёза платонический характер воздвигаемой при таком разделении архитектуры («эйдос» — вещь, идеальный эталон и его применение к реальности). Всю философию, все ее исторические формы и Делёз и Фуко рассматривают как попытки выстроить антитезу платонизму, уводящему мысль от явлений — к сущностям. Но все эти попытки были основаны на стремлении вернуться к явлению, тогда как дело заключается в том, чтобы обратить философию — к событию, к тому «что войдет к нам, затопляя явление и разрушая его сцепленность с сущностью».
[1] Фуко М. Theatrum philosophicum // Делёз Ж. Логика смысла/Екатеринбург, 1998. С. 445.
Поэтому о преемственности между Фуко и Делёзом свидетельствует не только книга последнего «Фуко», но также «Логика смысла» и «Различие и повторение».
4. Большинство книг, выпущенных в свет Делёзом, можно назвать книгами по истории философии. Фуко, Бергсон, Ницше, Кант, Юм, Лейбниц, Спиноза образуют целую галерею историко-философских портретов, демонстрирующих как сходство с оригиналами, так и своеобразие собственной позиции их создателя. Делёз исходит из представления о том, что важнейшей функцией философии является изготовление концептов. Эта функция роднит философию не столько с наукой, сколько с искусством дизайна и даже с маркетингом. Но историк философии должен не воспроизводить какой-либо концепт, а, пользуясь современными средствами анализа, продемонстрировать как генезис, так и функционирование этого концепта «изнутри». «История философии не должна повторять то, что сказал какой-либо философ; она должна говорить о том, что он неизбежно подразумевал, то, о чем он не говорил, но что, однако, присутствовало в том, что он говорил». Историко-философское исследование должно быть идеальным дублированием, предполагающим раскрытие всех возможных модификаций оригинала. Так у Делёза появляется идея представить Гегеля бородатым, а Маркса безбородым. Или идея философского инцеста: прочитать Гегеля как Ницше, а Ницше — как Гегеля. Некие тексты повторяются один в другом, отыгрывая все свои возможные варианты. Сам Делёз говорит, что в своих историко-философских исследованиях он всегда исходил из идеального тождества Ницше и Спинозы, т. е. из тождества несовместимых крайностей.
5. Наконец, Делёз предстает в этой книге и как политический мыслитель. Он констатирует, что дисциплинарные общества, описанные Фуко, уходят в прошлое, а на смену им приходят общества контроля. Характерная для дисциплинарных обществ потребность в сегментации социального пространства и в особой для каждого сегмента форме контроля исчезает в ситуации, когда, благодаря применению цифровых кодов, становится возможной непрерывная модуляция контролирующих функций и их взаимная конвертация. Границы сегментов, все еще сохраняющиеся на некоторое время, уже не имеют особого смысла. Контроль становится одновременно и единым, и многообразным. Наступает эпоха перманентного реформирования всех сегментов социального пространства (школы, больницы, армии, производственной сферы и т. д.), но на самом деле под видом реформ происходит их уничтожение. Цель политической философии Делёза — найти новые, более эффективные формы сопротивления.
Здесь, возможно, пятый луч этой пентаграммы проходит ближе к первому, чем к четвертому лучу, т. е. к темам критики марксизма, психоанализа, ближе к революционной энергии шизофрении. Предмет революционной атаки Гваттари и Делёза в двух томах «Капитализма и шизофрении» — фрейдовский Эдипов комплекс, «альфа и омега» современной цивилизации, поскольку, по их мнению, этот комплекс психоанализ не только обнаруживает, но и насаждает. В одном из интервью Делёз говорит, что философ должен стать «клиницистом цивилизации», новатором в симптоматологии. Великие мыслители, художники и писатели — не больные, как полагают психоаналитики, а наоборот, врачи. «Почему Мазох дает свое имя извращению, старому как сам мир? Не потому, что он сам „страдает“, а потому, что он обновляет его симптомы, составляет его оригинальную картину, превращая договор в его главный признак и связывая поведение мазохиста с положением этнических меньшинств и с ролью женщин в этих меньшинствах; мазохизм становится актом сопротивления, не отделимым от юмора этих меньшинств. Мазох — великий симптоматолог». Пруст, Кафка и многие другие, несмотря на обилие симптомов, легко обнаруживаемых в их творчестве, все же скорее врачи, чем больные; они, по словам Ницше, — врачи цивилизации. Потому-то психоанализ, претендующий на «системную» клиническую терапию современной цивилизации, и не устраивает Делёза. Важнейший и самый показательный психический недуг современности — не невроз, как полагают последователи Фрейда, а упускаемая ими из виду шизофрения. Революционную энергию нельзя почерпнуть из загнанных в Эдипов треугольник детских влечений. Точку высвобождения такой энергии следует искать там, где психические аномалии вступают в самый острый конфликт с социальными нормами. В этом смысле шизоанализ Делёза и Гваттари является разрушительной техникой; ее задача — полное и окончательное очищение бессознательного. Возможно, именно так следует понимать признание Делёза: «Мы всегда оставались марксистами».
Читать дальше