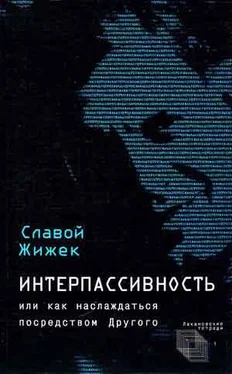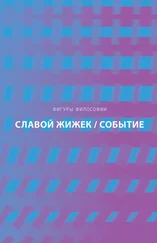Чтобы правильно определить границы понятия субъекта, предположительно верящего, как краеугольного камня символического порядка 1 , следует сравнить его с другим хорошо известным понятием — субъектом, предположительно знающим. Когда Лакан говорит о субъекте, предположительно знающем, он, как правило, забывает упомянуть о том, что это понятие является не нормой, а исключением, и становится значимым при противопоставлении его субъекту, предположительно верящему, характерному для символического порядка. Кто же такой «субъект, предположительно знающий»?
В телесериале «Коломбо» сначала обычно в деталях показывают преступление (убийство), так что загадка, которую следует разрешить, состоит не в том, чтобы показать, «кто его совершил», но в том, чтобы детектив установил связь между обманчивой поверхностной видимостью («явным содержанием» сцены преступления) и истиной преступления («скрытой мыслью»), в том, каким образом он докажет вину преступника. Успех «Коломбо», таким образом, свидетельствует о том, что подлинный интерес в работе детектива заключается в самом процессе дешифровки, а не в ее результате, то есть триумфальном финальном разоблачении. — «Убийца — это…» — здесь совершенно недостаточно, поскольку мы знаем об этом с самого начала. Но еще более важно не то, что мы — зрители — заранее знаем, кто совершил преступление, а то, что необъяснимым образом детектив Коломбо и сам знает об этом: посетив место преступления и столкнувшись с преступником, он абсолютно уверен в том, что подозреваемый и есть преступник, так что его дальнейшие усилия направлены не на решение загадки «кто сделал это?», а на то, каким образом доказать это преступнику. Такая инверсия «нормального» порядка имеет явные теологические коннотации: в настоящей религии я сначала верю в Бога, а потом, основываясь на этой вере, становлюсь восприимчивым к доказательствам ее истинности. Здесь точно так же: Коломбо сначала знает— с загадочной, но все же с абсолютно безошибочной уверенностью, — кто это сделал, а затем, основываясь на этом необъяснимом знании, продолжает собирать улики… И, с небольшими оговорками, можно утверждать, что аналитик — это «субъект, предположительно знающий»: когда анализируемый вступает в от ношение переноса с аналитиком, он обладает той же абсолютной уверенностью, что аналитик знает его тайну (это означает лишь то, что пациент априори «виновен», что существует тайный смысл, который нужно извлечь из его действий). Аналитик, таким образом, не является эмпириком, апробирующим на пациенте различные гипотезы, ищущим доказательства и т. д. Он воплощает абсолютную уверенность (которую Лакан сравнивает с уверенностью Декарта в cogito ergo sum) в том, что анализируемый «виновен» в своем бессознательном желании 2 .
Два эти понятия — субъект, предположительно верящий, и субъект, предположительно знающий, — не симметричны, поскольку не симметричны сами вера и знание. Или, выражаясь радикальнее, лакановский большой Другой как символическая институция обладает статусом веры, но не знания, поскольку вера является символической, а знание — реальным (большой Другой связан с фундаментальной «верой», она служит ему опорой) 3 . Таким образом, два субъекта не симметричны, поскольку не симметричны сами вера и знание: вера всегда минимально «рефлексивна», «вера в веру другого» (фраза «я все еще верю в коммунизм» равнозначна высказыванию «я верю, что все еще есть люди, которые верят в коммунизм»), тогда как знание совершенно не означает знания о том, что существует другой, который знает 4 . По этой причине я верю посредством другого, но я не могу знать посредством другого. То есть, обладая неотъемлемой ре флексивностью веры, когда другой верит вместо меня, сам я верю посредством него; однако у знания нет такой рефлексивности: когда другой предположительно знает, я не знаю посредством его.
Тибетский молитвенный барабан
Это отношение замещения не ограничивается верой: то же самое происходит при любом глубоком переживании субъекта, включая крик и смех. Достаточно вспомнить действие феномена перенесенных/смешенных эмоций — от так называемых «плакальщиц» (женщин, нанимаемых оплакивать покойников на похоронах) в «примитивных» обществах до «смеха за кадром» на телеэкранах и надевания экранных масок в киберпространстве. Когда я конструирую «ложный» образ, который выступает вместо меня в виртуальном сообществе, участником которого я являюсь (например, в сексуальных играх застенчивый мужчина зачастую принимает экранный образ привлекательной, неразборчивой в сексуальных связях женщины), эмоции, которые я испытываю и «придумываю» как часть моего экранного образа, не являются просто ложными, хотя (то, что я переживаю как) мое «истинное я» не ощущает их, они тем не менее в некотором смысле «истинны». То же самое происходит и тогда, когда я, уставший после тяжелого рабочего дня, смотрю телесериалы с закадровым смехом: даже если я не смеюсь, а просто смотрю на экран, я тем не менее после просмотра шоу ощущаю себя отдохнувшим… 5 Это и означает лакановское понятие «децентрации», децентрированного субъекта: мои самые интимные переживания могут решительным образом быть перенесены вовне; я буквально могу «смеяться и плакать посредством другого».
Читать дальше