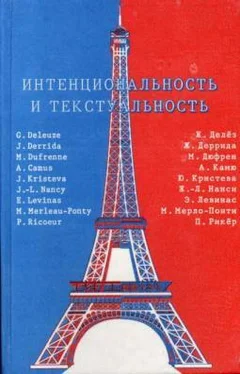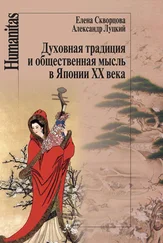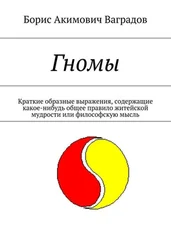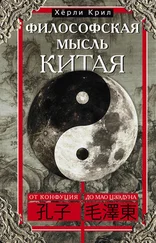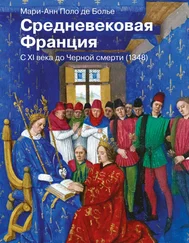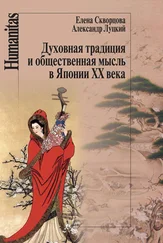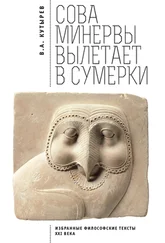В мышлении, рассматриваемом в качестве видения, познание и интенциональность, способность к пониманию означает сведение «другого» [ Аutrе ] к «тому же самому», означает синхронию в перспективе эгологически сосредоточенного бытия. « Знаю » выражает единство трансцендентальной апперцепции cogito или кантовского «Я мыслю », эгологию присутствия, утверждаемую от Декарта до Гуссерля, и даже вплоть до Хайдеггера, у которого в параграфе 9 « Бытия и времени » «бытие-к» [a-etre] Dasein выступает началом Jemelnlgkeit и, следовательно, Эго.
Не является ли «видение друг друга», присущее людям, — то есть, точнее сказать, язык — возвратом, в свою очередь, к видению как таковому и, следовательно, к тому самому эгологическому значению интенциональности, эгологизму любого синтеза, всегдашнему собиранию всей «инаковости» в присутствие и синхронию репрезентации? Язык зачастую так и понимается.
Разумеется, в речи, познании и видении мы обращаемся к знакам и с помощью вербальных знаков сообщаемся с Другим, — что зачастую и нарушает чистоту эгологического собирания, означенного в тематизированном присутствии. И, конечно, проблема остается в качестве проблемы такой коммуникации. Почему мы вообще объясняемся с другим? Потому что нам есть что сказать. Но почему это что-то нам известное, или представленное высказывается? Ведь как раз обращение к знакам не обязательно предполагает такого рода коммуникацию. Она может найти свое оправдание лишь в необходимости для Эго — в одиночестве его синтезирующей апперцепции — обнаружения знаков, данных ему самому, прежде всякого говорения, обращенного к кому-то еще. В этой эгологической работе собирания различного внутри присутствия или внутри репрезентации оказывается возможным, помимо присутствия непосредственного, поиск присутствия того, что уже является прошлым или что еще не наступило, с тем, чтобы вызвать их к жизни, предвосхитить и именовать с помощью знаков. Поэтому можно писать даже для себя самого. Следовательно, то обстоятельство, что невозможно мыслить вне языка, без обращения к вербальным знакам, не может свидетельствовать о каком-то прорыве в эгологическом порядке присутствия. Это может лишь означать необходимость внутреннего дискурса. Конечное мышление расколото, расщеплено для того, чтобы вопрошать и отвечать самому себе и, при этом, оно утрачивает основную нить. Мысль обращается к себе самой, мыслит себя самое, прерывая непрерывность синтеза апперцепции, но по-прежнему исходит из привычного «Я мыслю » или к нему возвращается. В этом собирании возможным оказывается даже переход от одного понятия к другому, явно исключающему первое, но, как раз в силу этой его противоположности, рано или поздно возникающему вновь. Диалектика, разрывающая Эго на разные части, заканчивается синтезом и системой, благодаря чему никаких разрывов более не наблюдается. Диалектика — это не диалог с Другим; в крайнем случае, она остается всего лишь «диалогом души с самой собой, который осуществляется путем вопросов и ответов». Платон, таким образом, совершенно верно определил сущность мышления. Согласно традиционному пониманию дискурса, которое отсылает к платоновской дефиниции, разум, в процессе выговаривания собственной мысли, остается самим собой, единственным и уникальным, одним и тем же в собственном присутствии, синхронным, несмотря на его челночное движение взад и вперед, внутри которого Эго должно было бы повернуться против себя самого.
Единство и присутствие утверждаются в эмпирической реальности межчеловеческого общения. Для каждого из собеседников общение обычно заключается в проникновении в мысль другого и в удержании ее. Это «совпадение» и означает Разумность и интериорность. В этом случае мыслящие субъекты пребывают до поры смутными, непроясненными множественными точками, эмпирическими антагонистами, в коих однажды вспыхивает прозрение, когда они видят один другого, говорят друг с другом и, наконец, «совпадают». Результатом обмена идеями станет присутствие и репрезентация знания в едином выражении или именовании. В принципе, оно вполне уместилось бы в границах индивидуального сознания, в том «cogifo», которое одновременно выступает и универсальным Разумом, и эгологической интериорностью.
Язык всегда может быть представлен как дискурс в границах этого «внутреннего»; ему всегда может быть предписана функция собирания разнородного, отличного в единство присутствия посредством Эго, благодаря интенциональному «Я мыслю ». Даже если Другой входит в этот вышеобозначенный язык — что, конечно же, возможно, — обращение к эгологической работе репрезентации не прерывается посредством такого вхождения. Она не может быть прервана, даже когда присутствие гарантировано исследованиями историка или футуролога и фактически вершится в памяти или в воображении, по ту сторону ре-презентации, или когда в культуре письмо собирает прошлое и будущее в настоящее книги — в нечто, заключенное в переплет, — или в настоящее библиотеки, где это настоящее выстроено на книжных полках. Это и есть собирание истории в некую присутствующую вещь, собирание бытия сущего в сущее [I'etre de I'etant dans un etant ]! Это и есть ключевой момент ре-презентации и видения как сущности мышления! И это справедливо, несмотря на то время, которое может занять само чтение книги, где то же собирание, та же структура настоящего обращены к длительности. И это будет справедливо, несмотря на прошлое, которое никогда не станет настоящим, никогда не будет пред-ставлено кем-либо, — незапамятное, древнее и безвластное прошлое — и несмотря на будущее, которого никто не может предвосхитить. Такое прошлое и такое будущее начинают обозначать время, исходя из метафоры потока, рождающееся из толкования текста без первоначального хронологического отсыла к знакомым, все еще пространственным образам «сюда» и «отсюда».
Читать дальше