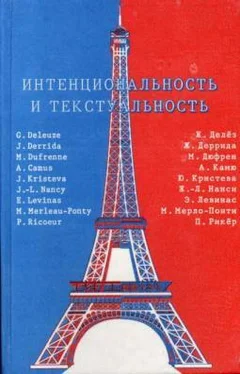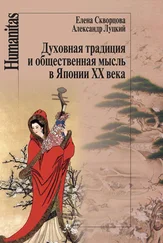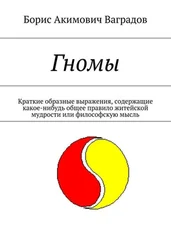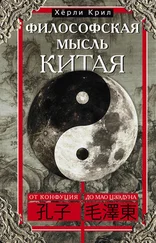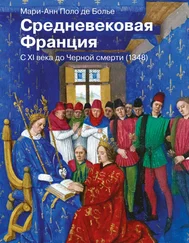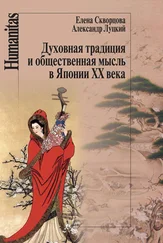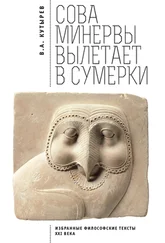Впрочем, Мерло-Понти не собирается приносить в жертву трансцендентальное эмпирическому, а субъективность сартровскому в-себе. В сущности, он остается согласен с Сартром в том, что cogito никогда не является чистым, при том, что оно всегда неизбежно. Свобода всегда является компромиссом или сумасшествием, но она никогда не является отменой всеобщей ответственности человека. Не находится ли порой Мерло-Понти под влиянием субъективизма, в котором он так часто упрекал Сартра? В том же предисловии к «Феноменологии восприятия» он пишет: «Я не являюсь ни „живым существом“, ни даже „человеком“ и ни „сознанием“ со всеми их характерными свойствами, которые зоология, социальная анатомия или индуктивная психология находят в этих продуктах истории, Я — абсолютный источник» 5 . Тем не менее, отрицание здесь стоит больше, чем утверждение, которое следует за ним. Мерло-Понти желает разоблачить пристрастность научных взглядов, согласно которым Я есть частица мира. А в утверждение вскоре будут привноситься нюансы, связанные с анализом бытия в мире, согласно которому источник этого анализа всегда сам пребывает в мире, «присутствует здесь прежде всякого анализа».
Необходимо вернуться к тому, что основание — не мир, не субъект, а согласие человека с миром. Основание не является ограничением, а есть всегда допустимое отношение, за пределами которого изолированные границы теряют свое значение. Идея того, чем является человек в этом мире, без сомнения, является банальной идеей, поскольку рискует всегда или усложниться в реализме, который порождает научный догматизм, или в идеализме, который внушает нам догматизм рефлексивного анализа. Для того чтобы «схватить» идею в ее чистоте, требуется единое усилие феноменологической редукции и ее провал: «наивысшее знание о редукции заключается в невозможности ее полного завершения» 6 . Даже наиболее искушенная рефлексия не сможет сломать сыновних интенциональных связей субъекта с миром. Ноэтический анализ ( ноэсиз — греч. мышление), раскрывающий синтезы, согласно которым мир конетитуируется субъектом для того, чтобы не закончиться произвольным растворением мира во впечатлениях при отсутствии истины, должен быть заменен ноэматическим анализом (ноэма — мысль) 7 , который берет мир как объект и объясняет существующее в мире через сам существующий мир. Мир всегда здесь, он не сотворен мною, а сотворен для меня, и я существую, только всегда пребывая в нем, захваченный первозданным порывом природы.
Это изначальное единение человека и мира существует в восприятии, где оно проявлено лучше всего. Восприятие на сей раз первично по отношению к воспринимаемому и воспринимающему: esse est perceptio. Оно есть некий корень, некое днище, на котором укоренены все акты: воображения, воспоминания или суждения. Присутствие обнаруживается прежде всяческой репрезентации, присутствие меня самого во мне самом — прозрачность самого сознания — переходит, посредством этого присутствия, из мира в меня и из меня в мир, что определяет интенциональность в ее первоначальной форме. Да, мир мне всегда дан надежно и достоверно. И тем не менее это всегда означает, Что вещи приобретают форму и смысл на моих глазах. Означает ли это, что мое присутствие по отношению к ним пассивно? Никак нет: важно то, что я собираю этот смысл, упорядочиваю его, и идея мира без человека есть в конце концов пустая идея. Если я не конституирую смысл произвольно, если я не осуждаю непреодолимое препятствие только потому, что оно появляется предо мною, тяжелое и опасное, то тем более я не должен ничего привносить в этот смысл и изменять в нем, хотя это и по мне, по моим силам, если бы я представил, что предо мной — грозное препятствие. Но если я иду в мир с надеждой переделать его своими мыслями и своими руками, это означает, что я являюсь изначально принятым им и что во мне всегда имеется некая готовность к тому, чтобы воспринять и «схватить» мир. Первоначальным, или трансцендентальным, является феномен, смысловая явленность в момент присутствия.
Говорят, что, возможно, в эти последние годы Мерло-Понти испытывал некое головокружение от хайдеггеровских концепций и пытался понять самого себя в свете идентификации присутствия и бытия. Однако мне кажется, что его философия должна была сопротивляться этому соблазну. Высказать мысль о том, что восприятие является основанием присутствия, это значит отказаться идентифицировать феномен с бытием как высшей инстанцией, это значит постоянно напоминать о том, что феномен есть всегда явление чего-то, воспринимаемого сущего; это означает отказать всяческой трансценденции в ее праве на существование, даже трансценденции Бытия в его различных модусах, означает взять на себя обязательство исследовать положение человека, исходя из его связи с сущим в воспоиятии. Все это не перестает утверждать
Читать дальше