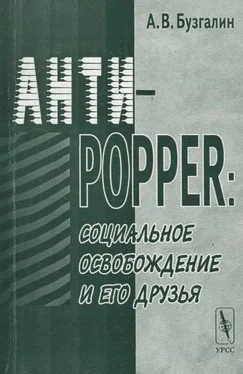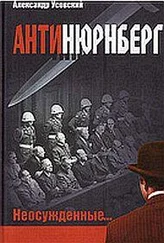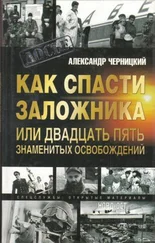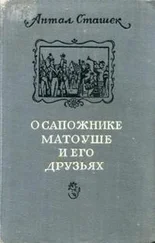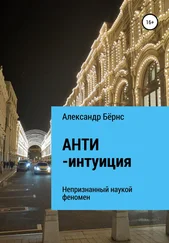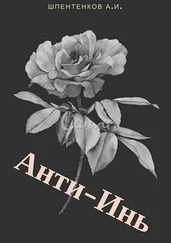Последняя приводит к пониманию отчуждения как мира, в котором сущностные силы человека как родового существа, осуществляющего преобразование природы и общества в соответствии с познанными законами их развития, стали чуждыми для подавляющего большинства членов общества. Они как бы «присвоены» господствующей социальной системой и лежащими на ее поверхности превращенными формами, имеющими видимость вещи, института (типичный пример — деньги как вещь, подчиняющая себе человека).
Собственные качества и способности Человека-творца истории (цели и средства, процесс и плоды его деятельности, его чувства и отношения к другим людям) превращаются в мир внешних, чуждых, неподвластных человеку и непознаваемых им социальных сил. Эти социальные силы — разделение труда и отношения эксплуатации, государство и традиция, денежный фетишизм и религия — как бы присваивают человеческие качества и тем самым превращают Человека-творца в функцию и раба данных внеличностных сил.
Отношения отчуждения характерны для всех уровней социальной жизни — материально-технологического (разделение труда и превращение человека в частичного работника, подчиненного в своей деятельности той или иной технологической системе), социально-экономического (человек как функция капитала, рынка), политического и идеологического.
Результатом (и предпосылкой нового витка воспроизводства отчуждения) становится самоотчуждение человека: жизнь, в которой индивид сам себя воспринимает как функцию внешнего мира.
Данный мир — мир отчуждения — именно как бы передает человеческие качества внешним социальным силам (например, кусочку бумаги с водяными знаками). Как бы — именно потому, что на самом деле этот мир кривых социальных зеркал создан самими людьми в силу главным образом объективных причин. Но в силу тех же самых причин только уродливые фигурки Зазеркалья и их кривлянье (делание денег, карьеры и т. п. как самоцель) воспринимаются нами как единственно реальный и естественный мир (вспомните, читатель, на удивление точный образ сказки о голом короле). Более того, в мире отчуждения мы, как правило, не можем жить и развиваться вне этих отчужденных социальных механизмов — разделения труда и эксплуатации, рынка и государства…
Повторю: мы сами своей жизнью создаем эту видимость творения социального распорядка и самой истории не людьми, а внешними силами, но иначе мы не могли бы жить и развиваться в эпоху «предыстории» (по Марксу). При этом отчуждению всегда противостоит социальное творчество — актуальная способность Человека непосредственно творить историю. В силу этого для предыстории всегда характерна определенная мера отчуждения, власть которого никогда не была абсолютной.
* * *
Весьма интересным представляется раздел труда Карла Поппера, посвященный проблеме классов и классовой борьбы. При этом, однако, следует сказать, что переход от социально-экономического детерминизма и так называемого экономического историзма к проблеме классов осуществляется Поппером фактически без учета ключевого пласта в марксистской трактовке общественных отношений, а именно — системы производственных отношений всякого общества («потеря» этого пласта общественной жизни вообще очень типична для не-марксистов и поверхностных критиков марксизма). Впрочем, пару раз Поппер упоминает о том, что для марксизма существует связь в развитии производительных сил и производственных отношений; по сути же дела, к анализу производственных отношений он не обращается вообще или обращается только по очень конкретным поводам. Даже понятия стоимости, прибавочной стоимости и накопления он рассматривает, скорее, как некоторые механизмы функционирования экономики, а не как социально-экономические отношения, структурирующие капиталистическое общество. В качестве примера такого подхода Поппера я приведу его критику экономического детерминизма:
«Некоторое знание экономических условий может внести значительный вклад, к примеру, в историю развития математических проблем, но знание самих проблем математики значительно более важно для этой цели. Действительно, можно написать очень хорошую историю развития математических проблем, вообще не ссылаясь на их „экономические основания“ (По моему мнению, „экономические условия“ или „общественные отношения“ в науке являются темами, в которых легко переборщить и которые легко перерождаются в банальность.)» (с. 127).
Читать дальше