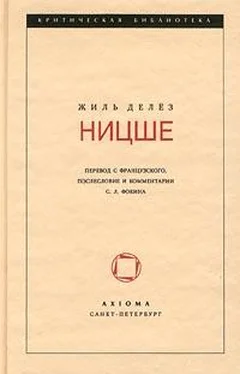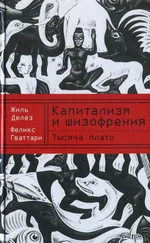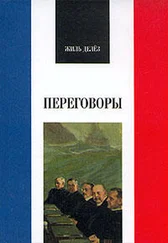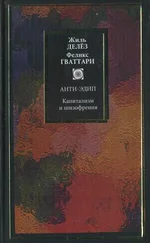Будучи напряженной, пульсирующей чувственностью, открытостью желания, сознание это пребывает нейтральным, ничейным, не может быть прерогативой никакого индивида [56].
Оно ничем не интегрировано, напротив, представляет собой известную силу, которая интегрирует различные слагаемые, порождая действия и организмы. Сознание живое и индивидуальное, равно как и всякая организация или тело производятся этой многофункциональной машиной желания, для описания которой Делёз часто использует заимствованный у Арто образ «тела без органов». Имманентность — не что иное, как «тело без органов», которое предшествует всякому телу, всякому организму, всякой организации: «Я называю его телом без органов, поскольку оно противится всем уровням организации, уровню организма, а также и организациям власти» [57]. Тело это — в равной степени биологическое, коллективное, политическое; оно пульсирует, бьется, содрогается, обнажая узлы напряжения, переходы, перепады, подъемы, спады; оно живет во многих режимах, в различных распорядках. План имманентности в таком срезе — чистая «физика» («physis»), вбирающая в себя небо и землю, растения и животных, человека и человека порождение, становление.
Но коль скоро дело идет о природе и природе человека, то «проблема Бога» остается совершенно чуждой плану имманентности. Философия имманентных ценностей жизни отвергает любую трансцендентность; это не философия «трагического гуманизма», для которой, как писал Ж.-П. Сартр в своей статье о Ж. Батае, «безмолвие трансцендентного […] составляет […] великое дело мысли» [58], но философия «спокойного атеизма»: «Спокойный атеизм — это философия, для которой Бог не есть проблема, несуществование или даже смерть Бога не суть проблемы; напротив — условия, которые необходимо считать наличными с тем, чтобы выявить настоящие проблемы: иной скромности не бывает. Никогда прежде философия не устраивалась столь основательно в чистом поле имманентности» [59]. Атеистическая перспектива «плана имманентности» отделяет философа, как понимает его Делёз, и от идеальных устремлений платонизма, и от изощренных установлений христианской трансценденции. Если платонизм, провозгласив Идею главенствующей инстанцией жизни, только готовил почву для развития «идеологии суждения» [60], связанной с практическим отрицанием всего, что не отвечает высочайшему мерилу, то историческое христианство начиная с апостола Павла все свои силы направило на то, чтобы взрастить это многовековое «древо суда» — последнего, божьего — под сенью которого вершатся человеческие судьбы [61]. Платоновская логика суждения движима законным стремлением установить критерии идей истинных, знание которых могло бы помочь людям в их поведении: законы древних говорят не столько о всевластии Закона, сколько о пути к Благу, откуда эти законы вытекают. Христианство же превращает суждение в главный Закон жизни, в главное орудие господства над жизнью. Идеология суждения берет начало в той невинной идее, что истинное царствие — не от мира сего. Именем этого «истинного», трансцендентного, мира судится всякое действие, всякое начинание, всякий росток и всякий орган мира. Трансцендентный Закон распространяет свою власть на все возможности органического, имманентного существования. Человек подсуден трансцендентности не потому только, что подлинное царствие его переносится в бесконечность, тогда как конечное, «здешнее», «теперешнее» существование представляется чем-то вроде «отсрочки» перед жизнью истинной, но также и в силу того, что земная жизнь отравляется сознанием неоплатного долга по отношению к трансцендентности (ибо, учит апостол Павел, Бог умер за грехи человека). Идеология суждения заполняет собой все уголки человеческого существования и существа, она сращивается с завладевающей внутренним миром «психологией священника», власть которой не ослабевает даже в отсутствие трансцендентности: судить всех и каждого, судить всё и вся именем Закона, несмотря на то что последний утрачивает всякую очевидность. Стало быть, не Благо определяет законы, но Закон — благо [62]. Идеология суждения, соединяясь с психологией священника, трансформируется во всеобъемлющую метафизическую машину, которая хочет контролировать и организовывать всякое движение физической жизни. Обращение к «плану имманентности» преследует цель вывести жизнь из-под контроля «машины осуждения», которая, собственно, и сводит все к «возвращению того же самого»; так же дело обстоит и с «телом без органов»: оно уклоняется от осуждения, поскольку не представляет собой никакого организма, лишено иерархической организации отдельных органов, по которой судят и осуждают человека.
Читать дальше