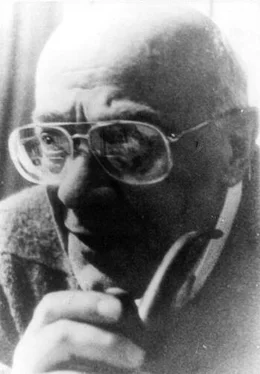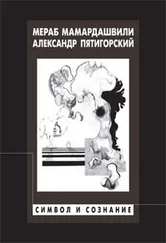Один человек, а именно Гёте, так описывал свое впечатление от Канта. Гёте говорил, что, подходя к Канту, человек испытывает такое ощущение, будто он входит в светлое пространство или из темного леса выходит на светлую поляну, на выделенное, выхваченное светом и объединенное пространство. Опять магическая перекличка и соответствие. Конечно же, основная проблема Канта – пространство, Raum. И не случайно Гёте говорит, что он входит в светлое пространство, не случайно он именно так осознает свое вхождение в философию при помощи человека, у которого основная метафизическая проблема – проблема пространства, понимаемого как внимательное место, то есть место, где и откуда что-то видно. Это nervus probandi кантовской философии. И он притягивает к себе, потому что другой человек, а именно Жан Поль, используя, казалось бы, тот же образ света, выбрал другие слова: «Кант – не одна звезда, а целое созвездие». Конечно, это уже просто красивая метафора, а у Гёте, как мы помним, выбраны слова «светлое пространство». И вот в этом светлом пространстве свет настолько ярок, что ты понимаешь и в то же время, поняв, ничего не понимаешь, то есть не можешь объяснить того, что ты понял.
Итак, чтобы зацепить вас и самого себя, начну с этого образца парадоксальности кантовского мышления. Что есть такой свет, который тебя охватил и все понятно, а ты, как собака, сказать ничего не можешь. Скажем, как нам понимать вот такое высказывание Канта: «Упование на Бога настолько абсолютно, что мы не можем вовлекать надежду на него ни в какие свои дела» note 3.
Понятно, да? Но выразить это понимание, объяснить его невозможно. Как объяснить, что упование на Бога настолько абсолютно, что обращаться к его помощи и ожидать ее в своих действиях, поступках, занимая какую-то позицию, не следует, нельзя; то есть мы уповаем настолько, что не должны уповать. Или, иначе говоря, если у нас есть надежда, то в нас нет действительного образа устроительного действия Бога. Не может быть надежды как формы провоцирования Бога или хитрого расчета на него в своих делах. Оберну это иначе. Кант утверждает, например, что мы свободны лишь потому, что виноваты, лишь полная вина делает нас свободными. Как это понять? Мне это абсолютно понятно. Вам тоже. Вот это и есть свет. Когда мы внутри него, мы понимаем. Но нельзя о свете, который внутри тебя, говорить, потому что говорить – значит, по определению, говорить со стороны.
Давайте держать в голове эту внутреннюю форму, этот nervus probandi кантовского мышления. Образец предлагаю такой: только потому, что вера абсолютна, мы не должны верить и надеяться; только потому, что вина полная, а не частичная, конкретная, – мы свободны, то есть вменяемы и ответственны. Не было бы ответственности и свободы, если бы не было вины. Почему? И что значит полная вина? Или полная и абсолютная надежда и упование на Бога? Абсолютная означает, что мы последние глупцы и язычники, если пытаемся вовлечь Бога в свои дела. Не там Бог! – говорит Кант… Как мыслит Кант? Как можно так мыслить? И если мыслить можно только так, то как это делается? Как сделать так, чтобы так мыслить? Вот чем нам имеет смысл заниматься… Конечно, наши занятия не будут содержать учебного ответа, как это делать. Они дают лишь настрой. Я высказал мысль Канта в метафизической форме, в понятиях «упование на Бога», «ответственность», «свобода». А со стороны облика Канта я могу подкрепить эту основную внутреннюю форму его личности и мысли напоминанием о том, что Кант удивительно пластичный человек, редко можно встретить человека такой раскованности и естественности в свободе и нравственности. Ведь для нас обычно нравственность – это факт выполнения нормы, а норма – это якобы то, что не предполагает естественности и раскованности.
У Канта есть и другое выражение этой же мысли. Он говорит, что только потому, что мы не боги, только потому, что мы не святые, мы можем быть нравственными, моральными, только тогда мы внутри феномена нравственности и области морали. У него лично это проявлялось к тому же и в отвращении ко всяким гримасам. В широком смысле норма для Канта – это гримаса; хождение в церковь – гримаса, креститься – гримаса. Это основной пафос Канта. Стояние в позе или держание какой-либо позы для Канта есть гримаса. Все это гримасы тела или гримасы мысли, духа. А гримасы духа суть излишние пристройки для общения с тем миром. Зачем они, когда есть нравственное чувство, говорит Кант. Ведь оно ясно и самодостоверно, оно не нуждается ни в чем лишнем, не нуждается в натужности, в гримасах. Это слово у него повторяется часто. (Кстати, к Канту очень точно применимо французское слово affranchi – «освобожденный». И одновременно это слово означает «принадлежащий к некоторой среде». Я хотел бы сохранить оба смысла этого слова в применении к Канту.)
Читать дальше