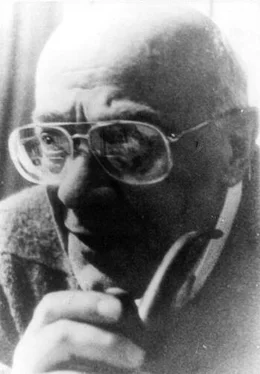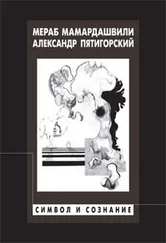В науке, в том, как она строится, в обосновании трансцендентальной возможности эмпирического научного опыта мы как бы можем нейтрализовать эту скорость необратимости, превращая явления мира в феномен, в этой связи я говорил о феномене осознавания, о событийном существовании самого этого сознания, сознающего сознание. Я мыслю – это не только содержание, но и существование, феномен существования, или, точнее, существующий феномен, онтологическое явление. У Канта – онтологический, а не гносеологический смысл термина «явление». Без этого фундамента нельзя понять, что такое трансцендентальная апперцепция. Часто открытие онтологической стороны явлений, или феноменов, приписывается Гуссерлю. Это не так. Во многом то, что есть глубокого и истинного в философии XX века,– лишь воспоминание и осознавание действительных идей классической философии. Если, конечно, идеи классической философии отличать от их культурных эквивалентов, шаблонов, которые получили хождение в широкой философской культуре в XVIII и XIX веках. Действительное содержание мышления Декарта и Канта было ими скрыто, и вот под видом так называемой модернистской философии происходит вглядывание и вычитывание, восстановление некоторых глубинных смыслов классической философии. Это происходит, конечно, уже в других терминах, на другом языке и потому кажется открытием – но таковым не является. Не являются открытиями ни экзистенциальная философия, ни феноменология Гуссерля. Они просто своего рода возрождение некоторых элементов классики, способ ее жизни, ее длящееся существование.
Однако я ушел в сторону… Я говорил о том, что в обосновании трансцендентальной возможности эмпирического научного опыта, то есть того, что вообще может эмпирически совершиться, мы не можем нейтрализовать скорость необратимости. Скорость большая, и мы всегда после феномена. Феномен – это то, о чем нам дано судить лишь задним числом. И наука превращает феномены существования, позади которых мы всегда находимся, в то, что она, и мы вслед за нею, называем явлениями в гносеологическом смысле этого слова. Явление – это уже нечто контролируемо воспроизводимое и повторяемое в универсальных и однородных условиях. Повторяемое неограниченно и массово. Кант называет это эмпирическим опытом и говорит об этом в терминах воспроизводства опыта. Материалом науки являются массово размноженные и массово воспроизведенные явления – воспроизведенные с добавкой усиления трансцендентального сознания. На место явлений мира поставлены их сознательные контролируемые эквиваленты. Например, эксперимент есть один из способов такого контроля – это то, что другой в другом пространстве и времени может воспроизвести. Любой эксперимент должен подчиняться критерию воспроизводимости и повторимости. Тем самым в этой операции превращения феномена в явление элиминируется элемент X, неопределенности, или исторический элемент мира. Кантовское философствование осуществляется с четким сознанием того, что о внутренних элементах (до Канта и после Канта это называли также душой, монадой, чувствующим или сознающим состоянием вещи, внутренним представлением вещи, в терминах которого она определяет себя к действию) можно говорить, только никогда не заходя в догадки о внутреннем – об этом можно говорить, например, в терминах движения по двусторонней плоскости. Внутрь мы не заходим, но, тем не менее, начав в одной точке плоскости Мёбиуса, с неконгруирующего, то есть с внутреннего и неразложимого в отношениях, мы приходим к тому, что в самом конце движения по ленте Мёбиуса можем говорить в терминах только относительных, то есть в терминах симметрии физических законов.
Значит, внутреннее остается у Канта на условиях, в статусе исторического элемента мира. Я хочу пояснить, почему я выбираю термин «исторический элемент мира». Вспомните пример с марсианским наблюдателем, который видит на Земле разыгрываемый в каком-то помещении спектакль – то, что известно людям как театральное представление. И вот я, марсианский наблюдатель, вижу относительные события, то есть действия и движения людей друг относительно друга на сцене, вижу взаимоотношения, которые возникают между ними,– на основе того, что я могу понимать язык в той мере, в какой могу соотносить звучащее слово с жестом, указывающим на предмет, который выбирается из множества предметов. Но если нет знания, что это театр, а это знание не вытекает из содержания наблюдаемых действий, то такое зрелище останется для марсианина мистическим и непостижимым в принципе. Знание, что это театр, является внутренним элементом мира, в котором театр постижим как театр, и этот внутренний элемент мира далее неразложим – нужно знать несводимым и конечным образом, что это театр. В других контекстах и срезах независимое знание называется у Канта априорным. Теперь я называю это историческим элементом мира.
Читать дальше