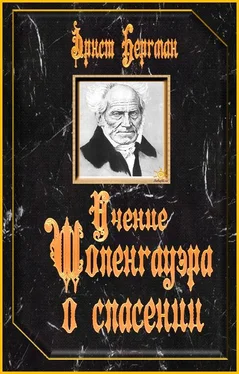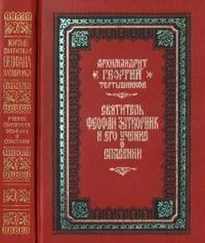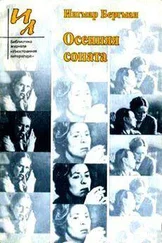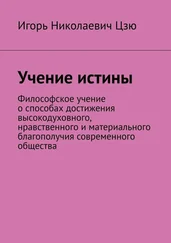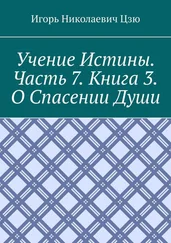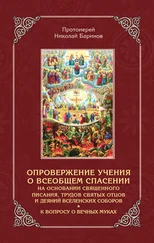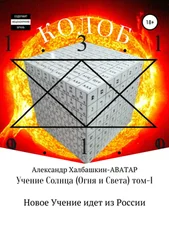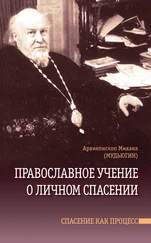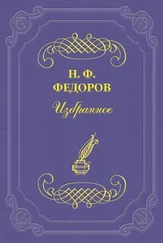Ночь тиха. Мы лежим и внимательно слушаем. Мир спит, но душа внутри нас не спит. Там двигается вечная воля, серьезная, темная, большая. Мы чувствуем, как она распространяется, как она ищет на ощупь внутри нас, сюда, туда. Она ищет свет в темной палате и, кажется, теперь затаилась и прислушивается. На ее губах играет улыбка, улыбка незнания, которую индусы придают своим изображениям Будды. Тот, кто не знает, тот радостен. И тогда? Он найдет свет, будет смотреть, и будет содрогаться. Что он видел в мрачной палате? Страшное! Монотонность, вечное возвращение, под которым сломался Стриндберг, рождение, страдание, смерть! Сансара! Животные не знают этого. Они не знают, что жизнь – это страдания. Они, возможно, чувствуют это. Но духовное животное это знает. При свете интеллекта оно обнаруживает мусор в палате: пыль и трупы, лица, сгрызенные болью и наслаждением, визг в углу, мучительно произнесенное «Ах»: Не завершение ли это еще! Еще нет, никогда! Вечность кружит над ними. Группа из Tартара! Лучше, если ты снова погасишь свет. Палата потом опять темна. Мы снова можем улыбаться как Будда, животное, бессознательное.
Собственно, то, что отрицает Шопенгауэр, даже вовсе не воля, а дух, свет, познание. Так как только там мир становится сознательным страданием.
Отрицание воли у Шопенгауэра – это, в принципе, подтверждение воли, решение воли отвернуться от сознательного духовного мира и взгляда на существующие вещи, чтобы снова устремиться в мрак. Да будет ночь! Гаснущий свет, это спасение для этой враждебной духу веры, последний рефлекс исчезающего блеска. Но колдовство этой нирваны приходит из света, который мы покидаем, не из ночи, в которую мы возвращаемся домой. Мы переживаем себя входящих в бессознательное с Как-Будто сознанием. Так теперь мы живем, даже если мы и не аскеты, безразличные, умерщвленные, ожидающие последней смерти, впрочем, поблизости от Стоа. Мы проживем, вероятно, еще долго, как бодрые шестидесятилетние. Свет еще горит в нас с торжественно-грустным отблеском. Культура умирает над этим, как она хочет. Произведение людей останется лежать, как в средневековье, как в джунглях Индии, на тысячелетия. Но зачем беспокоиться об этом святым! Что такое фабрика против состояния душ? Крик о спасении заглушает все.
Убийство культуры! Воля к недействию, к сумеркам! Руссо тоже устал от культуры. Он искал природу, мир пастуха, радость огорода. Шопенгауэр не столь невзыскателен. Все или ничто! Итак, ничто! Перелом! Мы перенесем обломки в ничто. Индуизировать Европу! Это невозможно. Но такие движения вспыхивают в современной культурной душе, такие настроения должны прийти. Странно, что они приходят так поздно. У греков они появились уже рано в философии киников и платонизме. С тех пор они сопровождают высокую песню, которую пел греческий дух, глухим боем литавр. Пока этот сверкающий мажор не перешел в печальный минор раннего христианства. Такие звуки возвышены, где бы они ни появлялись, на Востоке или на Западе, в старом или в новом времени. Они показывают душу. Они показывают мировую сущность на высоте сознания. Не нужно их незамедлительно отбрасывать как проявления душевной болезни. Но также не нужно подчинять им себя безусловно. Тот, кто празднует ночь, делает это в образе света. Давайте же праздновать свет, «лучшее сознание» Шопенгауэра, чистый глаз мира, который поворачивается к вечной идее, как цветок к Солнцу. Рука человека еще лежит на руле. У нас еще нет причины падать духом. Для нас еще цветет спасение через действие. И еще не угасло то золотое мерцание, которое лежит над миром Гёте.
Посмотри же туда, душа времени, если мрачные звуки Шопенгауэра манят тебя. Этот большой волшебник мысли не может лишить нас наивысшего, счастья чистого духовного видения, которое он и сам почитает. Мир – это «воля», но воля не к закату, а воля к духу. Никогда смыслом жизни не может быть смерть. Борьба к свету, вот что является смыслом жизни. Кто добился этого, тот должен это удерживать, до тех пор, пока чистый глаз мира самостоятельно не закроется снова. Не существует страдания, которое было бы достаточно велико, чтобы омрачить взгляд Солнца.
V. Шопенгауэр и Майстер Экхарт
«Будда, Экхарт и я учат по существу одному и тому же». Так писал Шопенгауэр в апреле 1852 года. Он хвалит «чудесно глубокое и правильное познание» Майстера Экхарта, которое только заковано, к сожалению, в цепи христианской мифологии. «Он говорит то, что он не думает и думает то, что не говорит». После 1857 года Шопенгауэр читал труды Экхарта в издании Пфайффера. «Данные там предписания и учения – самая полная, протекающая из самого глубокого внутреннего убеждения полемика с тем, что я представил как отрицание воли к жизни.» Также призыв к отказу от всякого желания играло, по его мнению, в христианской мистике значительно большую роль, чем в индийской.
Читать дальше