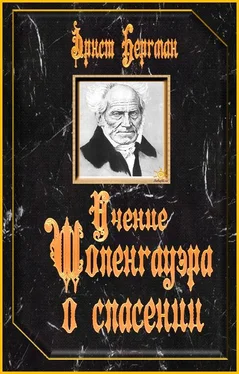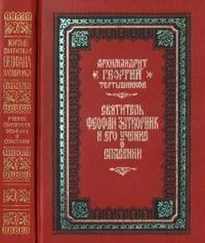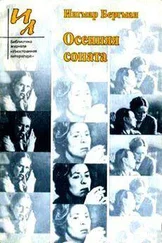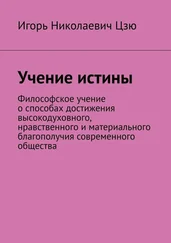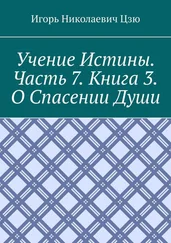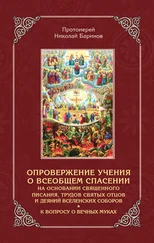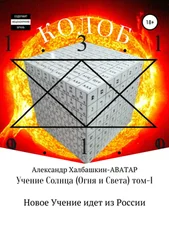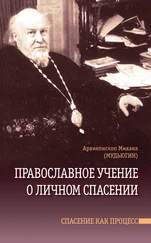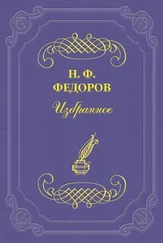Одна черная птица среди белых лебедей немецкого идеализма! Карканье в майской ночи немецкого духа! Талант этой души помещать мир в тень, может привести нас к осознанию метафизической необходимости всех вещей. Но это не может и не должно разрушать в нас веру в возвышение человечества и волю работать ради этого возвышения. Сегодня пессимистичную литанию можно услышать из всех переулков. В самых различных конторах ведется счет, который дает в итоге дефицит желаний. Протест Ницше кажется затихнувшим. Уже видно, как запад всходит в дыму и пепле. Метафизический большевизм Шопенгауэра нависает над умами подобно мрачной туче. Под влиянием чар Шопенгауэра люди внимательно прислушиваются к Индии, и этого маленького буддизма должно стать достаточно для народа Канта и Гёте. Если спросить, кто был Будда, и какое нам до него дело, то вы нигде не получите удовлетворительного ответа, даже в толстой книге Гримма. Экзотический аромат этого цветка мирового страдания действует одурманивающе, как уже на Шопенгауэра, так как он льстит нашей жажде наслаждений и любимому настроению нашей души на единственную мысль желания. Собственно, пессимисты – это сластолюбцы, любители наслаждений, так как они только ставят на первое место чисто эвдемонологическоe рассмотрение. Это против Эдуарда фон Хартмана. Подходит ли пессимизм вообще к учению о воле? Можно ли сделать вывод: этот мир самый плохой из всех возможных, потому что он – воля? Почему не полностью наоборот: этот мир самый лучший из всех возможных, потому что он – воля. Есть ли среди всех вещей что-то более ценное, чем воля? Воля – это сила, воля – это голод к действиям, который только один может спасти нас. Если мир состоит из воли, то все же: пусть он хочет нас до своей последней вершины. Органический дальнейший шаг шопенгауэровского волюнтаризма должен был бы быть оптимизмом, беспримерным оптимизмом в истории. Вместо этого Шопенгауэр привил утомленный рис Индии к угловатой ветви его северного мирового ясеня. При этом лотос утратил свой нежный аромат. В душе Гаутамы никогда не было гнева. Когда он, ездя верхом на белом коне из Капиталавасту, увидел нищего, прокаженного, старика и мертвого ребенка, то душа Индии перешла в мягкое счастье, счастье сладкой скорби о страданиях мира. Как плохо Шопенгауэр знает вид спасителей.
Шопенгауэр единственный среди немецких идеалистов, кто определенно разрабатывает учение о спасении. У многих других поэтов и мыслителей того времени, у Винкельмана, Шиллера, Жана Поля и Гельдерлина, у Гердера, Шляйермахера, Фихте и Шеллинга нам встречается в разнообразной форме идеал человеческого типа, который освободился от тяготеющих земных связей, и снова индивидуально-этические соображения этого вида встречаются также в форме научной системы. Однако, Шопенгауэр определенно выбирает термин спасение (спасительное освобождение, избавление), который нагружен исторически возвышенными традициями. Реминисценции из христианства и других религий спасения должны пробудиться (параграф 70), всё оказывается сдвинутым в сферу религиозного. Против этой терминологии нечего возразить. Она только лучшим образом подходит к достоинству предмета. Да, хотелось бы пожелать, чтобы она находилась чаще в немецком идеализме, чем это случается в действительности. Слово «спасение» звучало, вероятно, для тогдашнего уха более по-христиански, чем звучит оно для нашего сегодняшнего. Все же, пусть будет так, как ему бы хотелось: романтику освобождения Шопенгауэра нужно проверить в деловом духе и нужно показать, в какой мере его спасение является настоящим спасением, и в какой мере мы, сегодняшние люди, можем его принять.
Оно коренным образом отличается от христианского вследствие того, что у Шопенгауэра сам человек выступает как спаситель. Спасение, избавление не приходит извне в форме агнца Божьего, который берет на себя грехи мира. Деяние освобождающего избавления от спускающегося вниз к земле Бога переложено на собственные плечи человека. Кантианец в Шопенгауэре верил в человека и его нравственную силу, которая должна выполнить такое огромное дело как спасение себя самого и мира. По справедливости пессимист должен был бы сделать вывод, что человек слишком плох или слишком слаб, чтобы совершить действие спасения. Миру даже больше некуда уже погибать. Он должен теперь остаться таким, какой он есть, и страдать вплоть до всей вечности. Перспективы ужаса, как они действительно лежат в индийском учении сансары. Шопенгауэр их упускает. Но для него есть утешение, если ученики разочаровываются. «В угол, метлы, метлы!», говорит мастер-человек, и всемирный потоп утихает.
Читать дальше