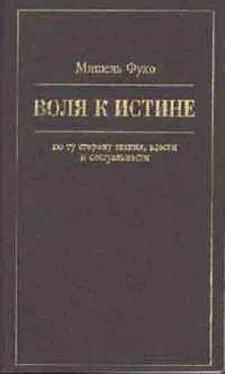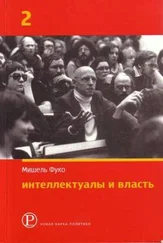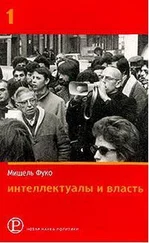с.275 В тексте первого варианта "Введения" находим поразительное место, которое отсутствует в окончательном тексте, но дает ключ к пониманию критически важных ходов мысли позднего Фуко. Здесь Фуко формулирует новое и во многом неожиданное понимание отношений между опытом, практикой и действием , с одной стороны, и мыслью , или историей мысли, — с другой. "Изучать формы опыта таким вот образом, в их истории, — пишет Фуко, — это тема, которая пришла ко мне из одного прежнего проекта: использовать методы экзистенциального анализа в поле психиатрии и в области душевной болезни. По двум причинам, которые не были независимыми друг от друга, я остался неудовлетворен этим проектом: из-за его теоретической недостаточности в том, что касается разработки понятия опыта, и из-за двойственности его связи с психиатрической практикой, которую он и игнорировал, и, одновременно, предполагал. Можно было искать разрешения первой трудности, обратившись к общей теории человеческого бытия, и совершенно иначе обойтись со второй проблемой, воспользовавшись этим, столь часто воспроизводимым, прибежищем — "экономическим и социальным контекстом"; таким образом можно было принять господствовавшую в то время дилемму: философская антропология или социальная история . Я, однако, спросил себя, нельзя ли, вместо того, чтобы играть на этой альтернативе, помыслить самое историчность форм опыта. Что предполагало две негативные задачи: "номиналистскую" редукцию философской антропологии, равно как и понятий, которые могли на нее опираться, с одной стороны, и сдвиг по отношению к области, понятиям и методам истории обществ — с другой. Позитивная же задача заключалась в том, чтобы выявить ту область, где образование, развитие и преобразование форм опыта могли иметь свое место: область истории мысли . Под "мыслью" я понимаю то, что устанавливает внутри различных возможных форм — игру истинного и ложного и что, следовательно, конституирует человеческое бытие в качестве субъекта познания , то, что дает основания для принятия правила или отказа от него и, стало быть, конституирует человеческое бытие в качестве социального и юридического субъекта , то, что устанавливает отношение с самим собой и с другими и, тем самым, конституирует человеческое бытие в качестве этического субъекта .
Мысль, таким вот образом понимаемую, не следует, стало быть, искать лишь в теоретических формулировках, будь то философия или наука; она может и должна анализироваться во всех способах говорить, делать, вести себя, где индивид обнаруживает себя в качестве субъекта познания, в качестве этического субъекта или юридического, в качестве субъекта сознающего — себя и других. В этом смысле, мысль рассматривается как собственно форма действия , как действие — в той мере, в какой оно предполагает игру истинного и ложного, принятие правила или отказ от него, отношение к себе самому и к другим. Изучение форм опыта может, стало быть, осуществляться тогда исходя из анализа " практик (дискурсивных или нет), если так называть различные системы действия — в меру того, что там водится так вот понимаемая мысль" ( Dits et ecrits , t.IV, pp.579–580). И вслед за этим Фуко продолжает: "Такая постановка вопроса вела к формулированию нескольких предельно общих принципов. Сингулярные формы опыта вполне могут нести в себе универсальные структуры , они вполне могут не быть независимыми от конкретных детерминации социального существования; однако и эти детерминации, и эти структуры могут дать место опытам — то есть знаниям определенного типа, правилам определенной формы и определенным способам сознания себя и других — не иначе как через мысль . Нет опыта, который не был бы неким способом мыслить и который невозможно было бы анализировать с точки зрения некоторой истории мысли ; это — то, что можно было бы назвать принципом ирредуцируемости мысли . В соответствии со вторым принципом эта мысль обладает историчностью , которая ей присуща; сказать, что она обладает историчностью, — означает не то, что она лишена всякой универсальной формы, но что само введение в игру этих универсальных форм — исторично; и сказать, что ей присуща эта историчность, — означает не то, что она независима от любых других исторических детерминации (экономического, социального или политического порядка), но что мысль имеет с ними сложные отношения, которые всегда оставляют формам, трансформациям, событиям мысли их специфичность; это — то, что можно было бы назвать принципом сингулярности истории мысли , существуют события мысли . Начинание это предполагало, наконец, третий принцип; критика, понимаемая как анализ исторических условий, в соответствии с которыми конституировались отношения к истине, к правилу и к себе, не фиксирует непроходимых границ и не описывает закрытых систем; она выявляет допускающие трансформации сингулярности, и трансформации эти могут осуществляться только через работу мысли над самой собой , это-то и можно было бы назвать принципом истории мысли как критической деятельности . Вот смысл, который я придаю своей работе и преподаванию, размещенным под знаком "истории систем мысли", той работе и преподаванию, которые всегда сохраняли двойное отнесение: к философии , у которой следует спрашивать, как возможно, что мысль имеет историю, — и к истории , у которой должно исспрашивать продуцирование различных форм мысли — в тех конкретных обличьях, которые они могут принимать (система представлений, или же институций, или практик). Какова — для философии — цена истории мысли? Каков — в истории — эффект мысли и характерных для нее событий? Каким образом индивидуальные или коллективные опыты оказываются в подчинении сингулярных форм мысли, то есть того, что конституирует субъекта в его отношении к истинному, или же к правилу, или к самому себе? За всем этим угадывается, каким образом чтение Ницше — в начале пятидесятых — открыло доступ к такого рода вопросам, позволяя порвать с традицией как феноменологии, так и марксизма" (ibid., рр.580–581).
Читать дальше