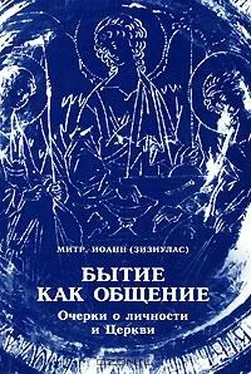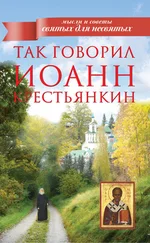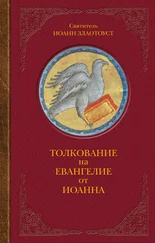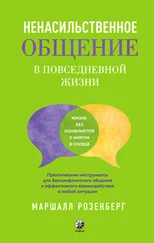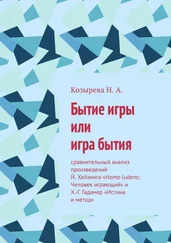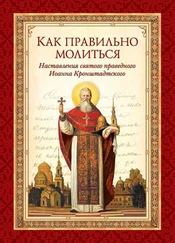Монофизитство обычно приписывается Псевдо–Дионисию Ареопагиту за его точку зрения на священнослужение.
Для восточного богословия христология не является самосуществующей и самообъясняемой областью богословия. Сравн. Н. Ниссиотис,"Пневматология и экклезиология…","Истина"12, 1967, стр.322–340. Настойчивое указание на пневматологию было настолько очевидным в византийском богословии, что Фома Аквинский обвинил греков в том, что ради пневматологии они приуменьшают достоинство Христа. Смотри И. Конгар, цит. соч., стр.267.
Мф.1,20; Лк.1,35.
Лк.4,13.
Важность эсхатологии для понимания служения Церкви правильно подчеркивается В. Панненбергом в"Значение эсхатологии для понимания апостолата и кафоличности Церкви","Кафоличность и Апостолат", стр.92–109. Сравн. примеч.106 и 107 ниже.
Это объясняет тот факт, что на Востоке мы не находим ни понятия"тварной благодати", которое разработано средневековыми западными богословами, ни абстракции о"делах"Христа или"влиянии"Его личности, как оно было разработано позднее в протестантском богословии. Сравни критику последнего Д. Бонхёффором в"Христологии"("Избранные сочинения", том III, 1960, стр.166–242, особенно стр.176 и далее. Непосредственная личная вовлеченность Бога в спасение представляла основную проблему в диспутах четырнадцатого века между Григорием Паламой и Варлаамом и она составляет часть греческой патристической точки зрения на благодать как прямого, непосредственного сопричастия и общения. Сравни И. Мейендорф “Христос в восточном мышлении”, 1969, стр.85 и далее.
Запрещение посвящений в сан in absoluto канонами древней Церкви (например, канон 6 Халкидона) не следует рассматривать как просто"канонический"вопрос без глубокого экклезиологического смысла.
Это ясно выражено уже у Ипполита в"Апост. Предании", но в основе своей это можно проследить в первоначальной ассоциации харизматических проявлений с евхаристическими собраниями. (Сравни И. Зизиулас, И. И. фон Альмен"Евхаристия"("Церкви и диалог", №12, 1970, стр.45 и далее. О связи между посвящением в сан и Тайной Вечерей с другой точки зрения сравни замечания Т. Ф. Торрена"Освящение и посвящение в сан"в"Шотландском журнале богословия"11, 1958, 241.
Например, интересное сходство между обрядом посвящения и обрядом бракосочетания в реальном литургическом богослужении Православной Церкви, должно быть связано с той же самой идеей уз, которые создает посвящение в сан между посвященным и Церковью.
Эта органическая связь между евхаристией и служением является не просто требованием богословия, но и истории, по крайней мере, в первые три столетия, как это, по–видимому, проистекает из исследования источников. Сравн. И. Д. Зизиулас"Единство Церкви в евхаристии и епископ в течение трех первых столетий", особенно стр.29–148.
В православной духовности также понимание евхаристии как"общины", собрания"™pi tХ aЩtХ"имеет тенденцию перекрываться индивидуальным благочестием. Труды О. Казеля и Г. Дикса на Западе внесли решающий вклад в раскрытие этого фундаментального аспекта евхаристии. Сравни также В. Элерт"Тайная Вечеря"и церковное общество в Древней Церкви главным образом на Востоке", 1954.
Начало этой объективизации благодати можно проследить в августиновом различии между благодатью как таковой или ее эффективностью или плодами, первое являлось чем‑то, чем можно"обладать"или"передавать"безотносительно от второго (например, Посл. 98. ПЛ. 33.363. Сравни прим.28 ниже). В Средние века и на Тридентском Соборе таинства понимались как"инструментальные причины";"содержащие"благодать и представляющие инструментальную продукцию благодати. Смотри у Р. Шульте"Таинства: 1. Таинство вообще"в"Sacramentum Mundi", V, 1970, стр.379 и далее. После Второго Ватиканского Собора богословие таинств помещается в контексте"жизни"вообще или Церкви как таинства. Смотри так же, стр.380 и далее. В сочинениях К. Раннера понятие каузальности, хотя и сохраняется и используется, оно удалено из аристотелевой идеи причины и следствия с помощью богословия символизма. (Смотри его"Церковь и таинства", 1963, особенно стр.34 и дал.38 и 96). Этот подход очень напоминает богословие символизма греческих Отцов (например, Кирилл Александрийский, Псевдо–Дионисий Ареопагит и Максим Исповедник) при условии, если это излагается в контексте пневматологии, которое может защитить нас от превращения"внутреннего символизма"в закон, действующий почти по необходимости. Именно по этой причине понятие казуальности, будучи тем или иным способом всегда связанным с идеей необходимости, становится трудным для применения к пневматологически обусловленной экклезиологии. В отношении идеи"potestas", по–видимому, это исчезло из нового обряда посвящений Римо–католической Церкви согласно А. Хусью"Значение богословия нового обряда и посвящений"у Меланже Г. Филипса, 1970, стр.271, 270.
Читать дальше