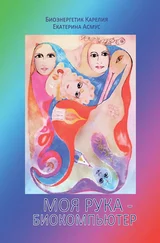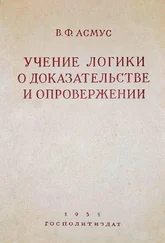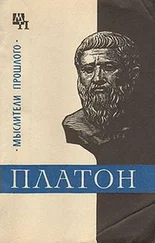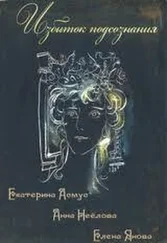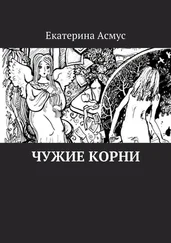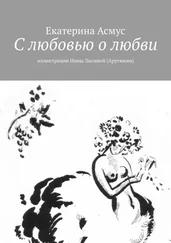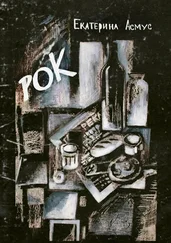Асмус как эстетик импонировал творческим работникам своей безусловной приверженностью к художественному вымыслу. В двадцатые годы у нас, а после войны и на Западе господствовал в литературе документализм. Жизнь полна выразительных событий, задача художника фиксировать их. В будущем, говорил Лев Толстой, писатели не будут придумывать романы, а брать их целиком из жизни. Асмус почитал Толстого, не возражал против документальной прозы, но утверждал, что без вымысла, без работы воображения и здесь не обойтись. Простой репортаж о произошедшем требует умения скомпоновать материал, найти выразительные средства. Документальное искусство не брезгует преувеличением, гиперболизацией (эффект «остранения»). Ибо искусство всегда игра.
По железобетонным канонам того времени сравнить искусство с игрой было недопустимой уступкой идеализму. Искусство родилось не в игре, а в труде, якобы учили классики. И вот профессор Асмус, опираясь на Шиллера, стал объяснять, что речь идет не о детской забаве и не об азартном времяпрепровождении, а особом способе поведения человека. И даже ставил слово «игра» в кавычки. «Эстетическая «игра» — свободная деятельность всех творческих сил человека и способностей, а порождаемый «игрой» продукт — не непосредственный предмет реальной жизни и не чистая греза воображения. Продукт игры — «видимость» — нечто идеальное (в сравнении с жизнью) и реальное (в сравнении с продукцией чистого воображения)... Характеризуя образ искусства как «видимость», Шиллер связывал образ его и со сферой чувственности, и со сферой идей. При этом он не отождествлял образ ни непосредственно с чувственностью, ни непосредственно с мышлением. Как «эстетическая» видимость образ уже поднимается над непосредственным чувственным восприятием предмета. Возможность такого возвышения коренится в самой чувственности. Уже зрение и слух ведут к познанию действительности только путем видимости. В зрении, как и в слухе, материя, производящая впечатление, уже удалена на известное расстояние от чувственных органов, посредством которых она воспринимается. «То, что мы видим глазом,— говорит Шиллер,— отлично от того, что мы ощущаем, ибо рассудок перескакивает через свет к самим предметам». Переход от дикости к культуре сказывается в эстетической области тем, что «видимость», которая на докультурной ступени была подчинена низшим чувствам, получает самостоятельную ценность и становится предметом особого наслаждения». Я процитировал вступительную статью Асмуса к тому эстетических работ Шиллера, увидевшему свет в середине пятидесятых годов. Не прошло и десяти лет, как стало возможным говорить вслух о первоисточнике идей Шиллера.
В начале шестидесятых годов Институт философии приступил (впервые в истории) к изданию сочинений Канта на русском языке. Валентин Фердинандович взял на себя подготовку работ Канта по эстетике и этике. Он убедил издательских работников, что труды Канта по этике невозможно уложить в одну книгу, в результате четвертый том вышел в двух книгах, издание из шеститомного превратилось и семитомное. По инициативе Асмуса впервые на русский язык был переведен важнейший этический труд Канта «Метафизика нравов». Очень горевал он, что нет возможности опубликовать трактат «Религия в пределах только разума» (это было время хрущевской «оттепели», обернувшейся для церкви губительными холодами). Валентин Фердинандович доказал, однако, что первая глава трактата о религии «Об изначально злом в человеческой природе» имеет самостоятельное значение и открыл этой работой вторую часть четвертого тома. Полностью «Религия в пределах только разума» увидела свет десятилетие спустя в составе тома «Трактаты и письма». Валентина Фердинандовича к тому времени уже не было в живых. Мы, готовившие этот том, посвятили его светлой памяти нашего наставника и учителя Валентина Фердинандовича Асмуса. Поместить на авантитул книги это посвящение нам не разрешили, оно содержится в заключительных строках вступительной статьи.
3. А. Каменский (доктор философских наук, ведущий научный сотрудник ИФ РАН).Если считать, что научная карьера начинается с поступления в аспирантуру, то вся моя научная жизнь вплоть до кончины Валентина Фердинандовича Асмуса в 1975 г. так или иначе связана с ним.
Впервые я услышал о нем еще в студенческие годы на философском факультете МИИФЛИ, где я учился в 1934—1938 гг. Тогда имя В. Ф. Асмуса дошло до меня как имя грешника, участника некоей секты, называвшейся туманным и витиеватым именем «меньшевиствующий идеализм». Что это такое, нам было не очень-то ясно. Правда, где-то во второй половине 30-х годов, Валентину Фердинандовичу было разрешено преподавать в нашем институте, но я его курса не слушал.
Читать дальше