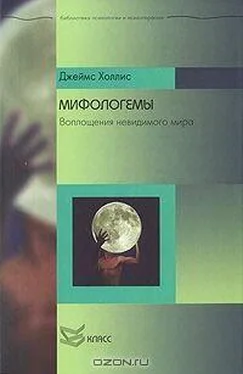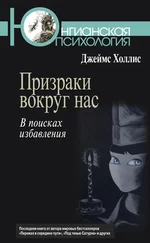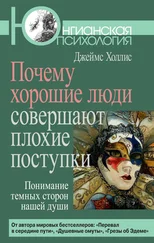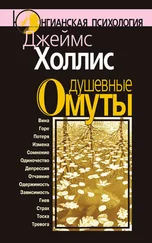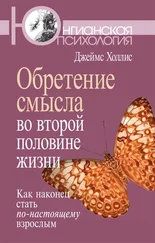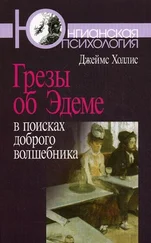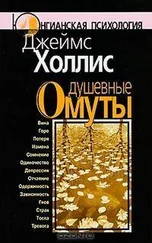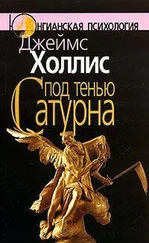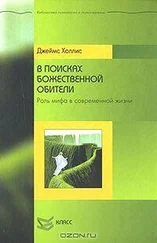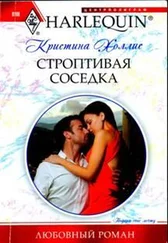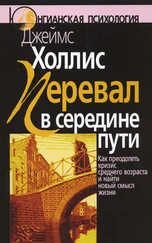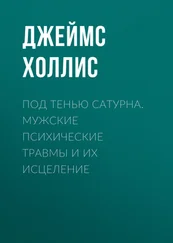В момент умирания Рамакришна рисует в своем воображении всю Вселенную как формирующую и изменяющую форму энергию, в которой происходит то, что Эго могло бы назвать умиранием реальности, и остается лишь сама энергия, которая становится доступной через тантрическое возбуждение, а не посредством конвенциональных отправлений культа. (Таким образом, например, известная статуя Бернини [74] Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680) – итальянский архитектор и скульптор. «Экстаз Святой Терезы» – значительное произведение зрелого мастера, оно находится в алтаре капеллы семейства Корнаро в церкви Санта-Мария делла Витториа в Риме. – Примеч. пер.
Терезы из Авилы [75] Тереза Авильская, Тереза Иисуса, Тереза де Аумада из города Авилы (1515-1582) – известная католическая святая, первая женщина-богослов в истории католической церкви, первая испанская писательница, автор мистических сочинений, монахиня-кармелитка, реформировавшая кармелитский орден, создав направление в монашестве под названием «босоногие кармелитки». В ее мистическом трактате «Внутренний замок» душа изображается как замок с многочисленными комнатами и переходами, в центре которого находится Христос. – Примеч. пер.
служит иллюстрацией этого оргиастического экстаза через coniunctio [76] Coniunctio (лат.) – связь, родство, близость, содружество, согласие, супружество. – Примеч. ред.
с Божеством.)
В данном случае снова мотив ребенка открывает путь к возможности постижения более глубокого смысла, чем до сих пор. Если образ ребенка появляется в сновидении, он вполне может содержать возможности, которые существуют в психике, но при этом отрицаются или остаются бессознательными. Такое мнение о важности архетипа младенца свидетельствует о том, что зародыш целостности уже присутствует внутри психики, и, как обычный ребенок подчиняется генетической программе развития, так и психика раскрывает целостную личность через такие знаки и намеки, заложенные в будущности ребенка.
При этом, как мы уже видели, эта целостность так же связана со смертью, как и с развитием. Мы всего лишь единицы из тех Десятков Тысяч Умирающих, – факт, который отрицало бы Эго, и вместе с тем по иронии судьбы всевозможные формы отрицания являются prima facie [77] Prima facie (лат.) – на первый взгляд. – Примеч. пер.
свидетельством сверхматериального характера психики. Будучи органом сознания, Эго ограничивается предписаниями, конечными числами и сокращающимся числом дней. Будучи органом души, психика содержит в себе абсолютно все: все и вместе с тем ничего, начало, конец и цель.
Младенец, в своем единстве и своем плюрализме, может в той же мере служить символом этого онтологического таинства, как и любой другой символ. Что касается младенца как символа плюрализма, то нам следует запомнить, что внутри нас существует не один ребенок, а множество, целый виртуальный детский сад различных энергий, программ и ценностей. Если они остаются недоступными сознанию, как часто и бывает, эти части психики реализуют замечательную способность к независимому самовыражению. По существу, в состоянии психологической диссоциации в целых областях личности может доминировать какой-то из таких «детей», что часто приводит человека в сильное смущение.
Внутри каждого из нас есть ребенок, который должен стать героем и одолеть демонический мрак. Наряду с ним у нас внутри есть зависимая, ленивая, инфантильная часть, которая, проявляясь, может причинить ущерб внешним отношениям, препятствовать риску, удерживать нас от взросления. Много современной болтовни в отношении «внутреннего ребенка» побуждает к регрессии и сентиментальности, к избеганию сложностей взрослой жизни. Все мы чувствовали у себя внутри брошенного ребенка, покинутого ребенка, но как часто мы вспоминаем, что такое отделение необходимо для личностного роста и индивидуации? Аналогичным образом мифологема младенца представляет собой спираль. Мы начинаем свою жизнь зависимыми, беззубыми и глупыми, и заканчиваем ее зависимыми, беззубыми и глупыми.
Внутри этого одного мифического образа содержится огромное изобилие человеческих переживаний. Вне всякого сомнения, он возникает из нашего конкретного восприятия, но вместе с тем есть нечто, восходящее из недр психики и порождающее символическую сложность и глубину. Юнг делает следующее очень емкое обобщение мифологемы ребенка:
Он воплощает жизненные силы, существующие за пределами ограниченного пространства нашего сознания; он служит воплощением подходов и возможностей, совершенно неизвестных нашему одностороннему сознанию. Он представляет собой целостность, объемлющую глубинные начала Природы. Он воплощает самое сильное и неотвратимое побуждение, присущее каждому человеку – стремление к самореализации. [78] "The Psychology of the Child Archetype", The Archetypes and the Collective Unconscious, CW 9i, par. 289.
Читать дальше