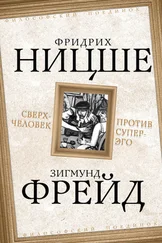«Новой гордости научило меня мое «Я», и ей я учу людей: больше не прятать голову в песок небесных предметов, но нести ее свободно, эту земную голову, которая придает Земле смысл!» {17} 17 Там же.
15
Идеалисты раскололи человека на тело и душу, а бытие они разделили на идею и действительность. И еще они приписали душе, духу, идее некую особую сверхценность, чтобы иметь основания тем сильнее презирать действительность и тело. Однако Заратустра говорит: существует лишь одна действительность, одно тело, и душа — это всего лишь нечто в теле, идея — нечто в действительности. Тело и душа человека представляют собой единство; тело и дух ведут происхождение из одного источника. Дух присутствует здесь лишь потому, что имеется тело, обладающее силой, достаточной для того, чтобы развивать в себе дух. Подобно тому, как растение выращивает на себе цветы, так и тело произращивает в себе дух.
«Позади твоих мыслей и чувств, брат мой, стоит могучий повелитель, неведомый мудрец — то есть «Само». Он обитает в твоем теле, он и есть твое тело.» {18} 18 «Заратустра», «Речи Заратустры», «О телоненавистниках».
У кого есть чутье на реальное, тот ищет дух, душу в реальном и в связи с реальным, он ищет разум в действительном; лишь тот, кто считает действительность бездуховной, «чисто природной», «необработанной», тот приписывает духу и душе некое особенное существование. Он превращает действительность просто в обиталище духа. Но такому человеку недостает также и чутья для восприятия собственно духа. Лишь потому, что он не видит духа в действительности, он начинает отыскивать его где‑то еще.
«В твоем теле больше разума, чем во всей твоей хваленой мудрости…
Тело — это большой разум, то есть множество с единым смыслом, в нем война и мир, в нем стадо и пастух.
Орудием твоего тела, брат мой, является также и твой малый разум, который ты именуешь «духом», малое орудие и игрушка твоего большого разума.» {19} 19 Там же; часть цитаты после многоточия находится у Ницше в начале параграфа.
Глупец тот, кто оторвет цветок от растения и полагает, что отрезанный цветок все еще сможет развиться до плода. Глупец и тот, кто отделяет дух от природы и полагает, что такой обособленный дух все еще способен к творчеству.
Люди с нездоровыми инстинктами осуществили разделение духа и тела. Лишь болезненный инстинкт в состоянии заявлять: царство мое не от сего мира. Царство здравого инстинкта — исключительно этот наш мир.
16
Ну и идеалы они себе создали, эти ненавистники действительности! Рассмотрим идеалы аскетов, которые говорят: давайте‑ка, обратите свой взор от посюсторонности и взирайте на потустороннее! Что являют собой аскетические идеалы? Этим вопросом и предположениями, выдвинутыми в связи с ним, Ницше дал возможность глубоко заглянуть в свое неудовлетворенное новейшей западной культурой сердце («Генеалогия морали», 3–е рассмотрение).
Если художник, как, например, Рихард Вагнер в последний период своего творчества, делается приверженцем аскетических идеалов, это не Бог весть какое событие. На протяжении всей своей жизни художник стоит выше своих созданий. На то, что там упоминается, он взирает сверху вниз. Он создает реалии, которые его реалиями не являются. «Гомер не создал бы Ахилла, а Гёте — Фауста, когда бы Гомер был Ахиллом, а Гёте — Фаустом» («Генеалогия морали», 3–е рассмотрение, § 4). Нужно ли удивляться, что стоит такому художнику всерьез отнестись к собственному существованию, пожелай он преобразовать в действительность собственные воззрения, как в результате на свет появляется что‑то совершенно нереальное. Познакомившись с философией Шопенгауэра, Рихард Вагнер полностью поменял воззрения на свое искусство. Прежде он видел в музыке средство выражения, которое нуждается в чем‑то, чему оно придает форму, а именно в драме. В написанной в 1851 г. работе «Опера и драма» Вагнер говорит, что величайшая ошибка, которую только можно совершить в отношении оперы, состоит в том, что «средство выражения (музыка) делается целью, а цель выражения (драма) — средством».
Но после знакомства с учением Шопенгауэра о музыке взгляды Вагнера переменились. Шопенгауэр придерживался той точки зрения, что музыка повествует нам о сущности самой вещи. Во всех прочих искусствах вечная воля, обитающая во всех вещах, отыскивает свое воплощение лишь в своих копиях, в идеях; музыка же — это не просто портрет воли: в ней воля возвещает себя непосредственно. Как полагает Шопенгауэр, в музыкальных звучаниях мы непосредственно воспринимаем все то, что в прочих наших представлениях является нам лишь в виде отблеска: вечная первооснова всего бытия, то есть воля. Для Шопенгауэра музыка приносит весточку из сферы потустороннего. Это воззрение подействовало на Рихарда Вагнера. Для него музыка имела значение уже не средства выражения реальных человеческих страстей, как они воплощены в драме, но как «своего рода рупор «самой сути» вещей, ретранслятор {20} 20 В оригинале — Telephon, разумеется, не в смысле современного телефона (хотя слово уже входило в немецкую речь), а в этимологическом значении устройства, вещающего на расстоянии.
потустороннего». Теперь Рихард Вагнер полагал, что занят уже не выражением действительности в звуках; «отныне его язык, этого чревовещателя Господа, — это не язык музыки; нет, его языком стал язык метафизики, так что чему удивляться, что в один прекрасный день он заговорил об аскетических идеалах?» («Генеалогия», 3–е рассмотрение, § 5).
Читать дальше