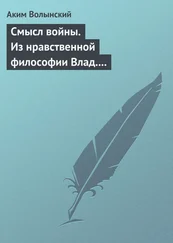«Необходимо ли, — спрашивает он в своем позднем предисловии к «Рождению трагедии» («Опыт самокритики», 1886), — пессимизм есть признак заката, поражения, неудачи, усталого и ослабленного инстинкта? — как это было у индусов, как это есть, по всей видимости, у нас, «современных» людей и европейцев? Существует ли пессимизм силы? Интеллектуальное предрасположение к жестокому, ужасному, злому, проблематичному в существовании, проистекающем из изобилия, бьющего ключом здоровья, из полноты наличного бытия? Исполненная искушений храбрость острейшего взгляда, который требует ужасающего, как врага, достойного врага, на котором он может испытать свою силу? на котором он хочет учиться тому, что такое «страх»?» [8]
«…Откуда должно было… возникнуть… требование безобразного, доброкачественная суровая воля древних эллинов к пессимизму, к трагическому мифу, к образам устрашающего, злого, загадочного, рокового в основе наличного бытия, — откуда должна была возникнуть трагедия? Быть может, из легкости, из рвущегося через край здоровья, из чрезвычайной полноты? И какое значение имеет тогда, выражаясь физиологически, то безумие, из которого выросло как трагическое, так и комическое искусство, дионисическое безумие? Как? Быть может, безумие не необходимо является симптомом вырождения, упадка, перезрелой культуры? Быть может, существуют… неврозы здоровья» [9].
Хорошо, точно, честно — не в пример будущим его эпигонам — формулировал свою проблему Ницше, которому до окончательного погружения в безумие оставалось всего три года. Или он со своими невротическими фобиями, со своими учащающимися приступами помрачения ума, перемежаемыми столь же болезненной эйфорией, со своей безысходной завороженностью всем ужасным, чудовищным, безобразным, о чем нашептывает ему разгоряченная фантазия, — это абсолютно нормальный человек, во всяком случае, более нормальный, чем те «многие, слишком многие», кому недоступны эти экстравагантные переживания. Или он и в самом деле безнадежно больной человек, принявший наиболее болезненные и болезнетворные из движений своей души и своего интеллекта за выражение «рвущегося через край здоровья». Чтобы почувствовать себя здоровым, безнадежно больному человеку нужно было переименовывать все имена, «переоценивать» все ценности, прибегая к этой процедуре вновь и вновь, продлевая ее до бесконечности, так как она оказывалась единственным способом, с помощью которого этот человек мог удержаться на гладкой поверхности бодрствующего («дневного») сознания, а стало быть — и воспроизвести свою человеческую жизнь.
Либо здоров он, Фридрих Ницше, и тогда вся европейская культура и цивилизация (начиная с коварного Сократа, который, по его мнению, убил древнегреческую трагедию) находится в состоянии умопомрачения, болезненной деградации умственных и душевных сил. Либо безнадежно болен он сам, а не культурная традиция Европы, ведущая свое начало как раз от Сократа и Платона, ассимилированных вначале европейским средневековьем, а затем и Новым временем.
В предельной заостренности, крайней напряженности ницшеанской постановки вопроса, как она дана в позднем «Опыте самокритики», явственно ощущается близость последней фазы душевного заболевания базельского философа, — близость, ставящая разум больного мыслителя в «предельную», так сказать, ситуацию, на грань, за которой он кончается, уступая все свои права Небытию… разума. Отсюда — вся абсолюткость ницшеанского «или — или»: или я (абсолютно здоров), или мир. Однако та же роковая альтернатива чувствуется и в подтексте «Рождения трагедии» — книги, написанной за 15 лет до «Опыта самокритики», хотя здесь она формулируется, по крайней мере, в той же степени под влиянием философии Шопенгауэра, в какой и под воздействием личного душевного опыта, а потому ей недостает еще истинной чистоты и недвусмысленности.
Истинную тайну и исток, действительный «нерв» ницшеанского «Рождения трагедии» образует та же самая проблема, что в кризисную пору надолго выбила из привычной жизненной колеи Льва Толстого: как справиться с мыслью о смерти, коль скоро она превратилась в навязчивую идею, обессмыслившую все содержание человеческого существования, саму жизнь как таковую? Однако в отличие от российского писателя, считавшего одно время единственно последовательным выходом из этой ситуации — «выходом силы и энергии» — самоубийство, и в противоположность Шопенгауэру, убежденному, что одним самоубийством не спастись и что нужно «убить» саму бессмертную Волю к жизни, порождающую и саму жизнь, и страх смерти, молодой Ницше рассуждал иначе. Он уже тогда, в свои 27 лет, считал невозможным избавиться от навязчивой мысли о смерти, равно как и от поддерживающей в индивидах эту мысль Воли к жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу