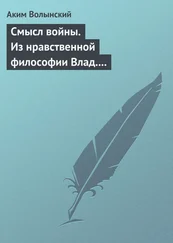«Искусство, поэзия?..» — Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это — дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все — и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидел, что и это — обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других?» [4]
Мы еще вернемся специально к вопросу о том, каким образом Лев Толстой преодолел этот свой кризис, подвергнув убедительной критике и решительно отвергнув, самые глубокие предпосылки шопенгауэровской философии — той самой, что была для русского писателя не только способом мировоззренческого осознания этого опаснейшего кризиса, но и своеобразной формой его усугубления, вирусом, обострявшим болезнь, загоняя ее все дальше в глубь организма — в глубь сознания, в глубь заболевшей души. Пока же толстовская «Исповедь» важна для нас как ярчайшее свидетельство того, как тот самый кризис, симптомом и ферментом которого была шопенгауэровская философская конструкция, должен был переживаться — и действительно переживался — людьми, чуткими к восприятию практически жизненных «кореллятов» абстрактных и отвлеченных философем.
Как видим, кошмарное ощущение того, что «я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение» [5], не способствует ни укреплению нравственного самосознания человека, ни активизации культурно-творческой деятельности. Наоборот, змеиный взор этого многоголового чудовища обладает способностью парализовать нравственное сознание и творческую волю индивида.
Единственное, к чему остается способным человек, загипнотизированный неотступно преследующим его кошмарным видением смерти, — это способность к разоблачительству: выворачиванию наизнанку, ерническому сведению к низшему и примитивному, глумливому сбрасыванию с пьедестала всего, чему он когда-либо поклонялся, что он когда-либо принимал за нечто высшее. Речь идет о своеобразной «игре в ничто», заключающейся в сбрасывании в бездну Небытия всех истинно человеческих определений. Созерцая, как они исчезают там, индивид, загипнотизированный «драконом смерти», испытывает нечто вроде облегчения («Все там будем!..»), впрочем, облегчения временного и иллюзорного.
Любопытно, что этот вариант, который приняли как «модус» своего существования довольно многие из последователей Шопенгауэра на Западе, не представлялся Толстому заслуживающим сколько-нибудь серьезного внимания, когда он напряженно и мучительно размышлял о возможных путях «выхода» из своей кризисной духовной ситуации.
«Я нашел… — вспоминает впоследствии писатель свои душевные метания кризисной поры, — что… есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.
Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица…
Второй выход — это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть…
Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее…
Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может» [6].
Лев Толстой искренне признается, что больше всего ему импонировал третий выход — «выход силы и энергии», то есть самоубийство, однако что-то мешало ему покончить с собой. Причем этим «что-то» не было, по мнению писателя, ни бессмысленное желание жить (как раз ощущение бессмысленности жизни, коль скоро оно было осознано, — оно-то соблазняло его к самоубийству), ни страх смерти: последний опять-таки скорее побуждал покончить счеты с жизнью, чтобы скорее прервать, прекратить ее — по принципу: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Этим «что-то» было ощущение какой-то внутренней порочности, нравственной ущербности владевшего им умонастроения. «Теперь я вижу, — констатирует автор «Исповеди», — что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моих мыслей и мыслей мудрых (Толстой обычно упоминает в аналогичной связи прежде всего Шопенгауэра, а затем Соломона, Будду и т. д. — Ю. Д.), приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения» [7].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу