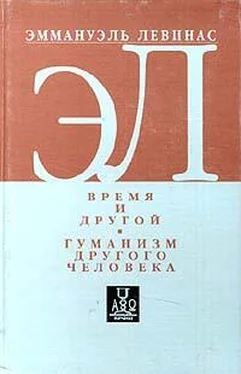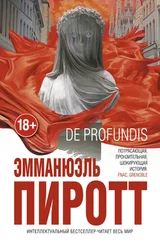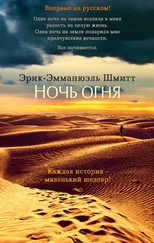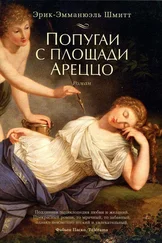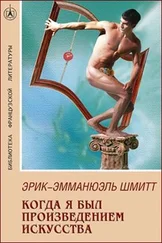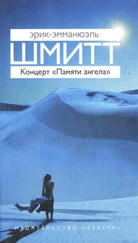Смерть у Хайдеггера - это не «невозможность возможности», как сказал г-н Валь, а «возможность невозможности». Это схоластическое, на первый взгляд, различие имеет первостепенную важность (примеч. Левинаса).
Autre и autrui.
На протяжении всей работы Левинас для обозначения понятия будущего употребляет слово avenir - самое обычное для этого во французском. И в силу его общеупотребительности мы вынуждены были и на русский переводить его привычным для обозначения этого понятия словом «будущее». Тем не менее надо иметь в виду, что по внутренней форме слова, которая в дальнейшем используется Левинасом, и по приписываемому этому понятию содержанию, согласующемуся у него с этой внутренней формой, фр. avenir и рус. «будущее» не совпадают. Avenir образовано от глагола venir - приходить. À venir - это то, что должно прийти и что, по Левинасу, совершенно другое по отношению к своему наличному бытию, в то время как рус. «будущее» этимологически явственно восходит к «бытию». Если бы не общеупотребительность avenir, его точнее всего было бы перевести как «грядущее». И хотя этот церковнославянизм не подходит для перевода в силу вышесказанного, тем не менее весьма характерно, что конституируемое Левинасом понятие не чуждо системе русского языка и оказывается в нем словом, имеющим определенную христианскую семантику. Будущего ждут, а «грядущего чают».
Ср. Левинас. 46 г.: «Традиционная философия, и Бергсон, и Хайдеггер в том числе, оставалась в рамках понятия времени, либо взятого чисто внешне по отношению к субъекту, времени-объекта, либо целиком содержащимся в субъекте. Но субъект, о котором шла речь, был всегда одиноким субъектом. Целиком одинокое “Я”, монада, уже обладало временем. Обновление, приносимое с собой временем, казалось классической философии событием, которое она могла объяснить монадой, событием отрицания. Именно из-за неопределенности ничто, в котором завершается отрицающее себя мгновение с приходом следующего мгновения, субъект, как казалось, получал свободу. Классическая философия обошла стороной свободу, состоящую не в самоотрицании, но в получении поощрения своему бытию, в самой другости другого. Она недооценила другость другого в диалоге, в котором другой освобождает нас. поскольку она верила, что существует молчаливый диалог души с собой».
«Целомудрие» в данном переводе соответствует в оригинале слову pudeur. Надо сказать, что перевод его как «целомудрие» является серьезным вопросом, ведь pudeur имеет два значения: стыдливость и целомудрие. К тому же во французском есть и другое слово, имеющее но преимуществу значение целомудрия, -chasteté. Таким образом, выбор из двух значений, а также в случае выбора «целомудрия» необходимость объяснения, почему Левинас не употребил для его обозначения chasteté, входит в задачу интерпретации, происходящей, разумеется, во всем переводе, но особенно существенной в этом ключевом для работы Левинаса месте. Ведь от понимания этого слова в конечном счете зависит и понимание определяемого им понятия тайны, в свою очередь определяющей другость другого - центральную тему Левинаса.
Если обратиться к ближайшему контексту, где встречается pudeur, то на первый взгляд самое естественное перевести его как «стыдливость». Тогда было бы: «Способ существования женского -скрывать себя, и эта сокрытость себя есть не что иное, как стыдливость», Однако в более широком контексте оказывается, что это сокрытие себя не следует понимать как действие некоего субъекта, существующего, пытающегося сокрыться от взгляда иного субъекта в силу «естественной» стыдливости, подобно тому, как это произошло с Адамом и его женой после грехопадения. Левинас пишет: «Положив другость другого как тайну, определенную, в свою очередь, через pudeur, я не полагаю ее как свободу, тождественную моей... я полагаю не иного существующего, противостоящего мне, но другость».
Что же касается chasteté, то оно во французском языке относится к сфере нравственности, подразумевающей волю и усилие, что исключается тем онтологическим смыслом, который слову pudeur придает Левинас. Его «целомудрие» - невинность, а не аскеза.
Хотя в работе Левинаса вся полемика направлена на концепцию Бытия-с-Другим Хайдеггера и его понимание времени, очевидно, ее можно рассматривать и в контексте вышедшей в 1945 г. книги М. Мерло-Понти Феноменология восприятия . Здесь в заключении главы «Темпоральность» французский феноменолог подходит к проблеме Другого, но фактически уничтожает его другость, помещая Настоящее в качестве среднего члена, в который проецирует себя и в котором узнают себя оба сознания, и в котором они переплетаются. Таким образом, собственное «Я» характеризуется, спустя мгновение, как такое же другое Я, как и действительное «Я» Другого. Но Другой - это не другое Я, он не должен мыслиться мной по аналогии с моим «Я», это истинно Другой - в этом главное возражение и пафос работы Левинаса.
Читать дальше