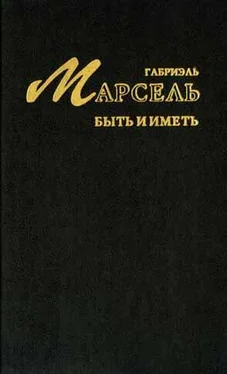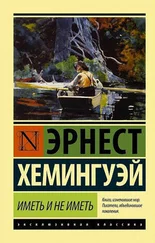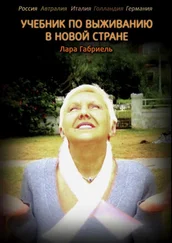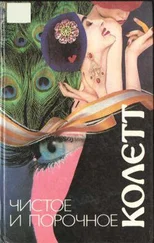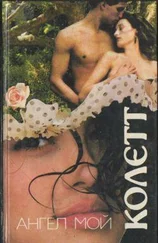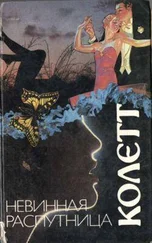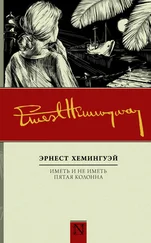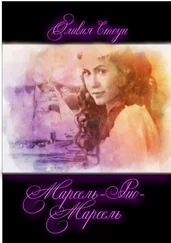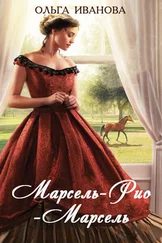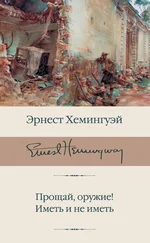5. Нехарактеризуемое, таким образом, есть то, чем нельзя обладать. Переход к присутствию. Присоединить сюда различие между "ты" и "он". Очевидно, что "ты",рассмотренное как "он", подпадает под характеризующее суждение. Но не менее ясно, что "ты", взятое как ”ты",переносится на другой уровень. Исследовать похвалу с этой точки зрения.
Противоположность между желанием и любовью представляет собой очень важный пример противоположности между обладанием и бытием. Желать в действительности означает обладать, не обладая. Желание может рассматривать одновременно как аутоцентрическое и как гетероцентрическое (противоположность самого себя и другого). Любовь преодолевает противоположность себя и другого, поскольку переносит нас в сферу бытия.
Другое важное приложение: различие между автономией и свободой (см. запись от 16 февраля).
Я отмечаю сегодня, что в содержимом также заключена идея потенциального действия (возможность наливать, проливать и т. д.). В содержимом есть то же, что и во владении, — возможность. Содержимое не является чисто пространственным.
Понять глубже, чем раньше, природу зависимости бытия по отношению к обладанию: наша собственность нас поглощает. Метафизические основания потребности охранять. Возможно, я объединяю это с написанным мною по поводу сделки. Самость воплощается в имеющейся вещи; более того, она возможна лишь там, где есть собственность. Исчезновение себя в действии, в каком бы то ни было творчестве; по-моему, возвращение себя возможно лишь когда в творчестве возникает пауза.
Нужно развивать то, что я уже сказал о нехарактеризуемости. Мы не можем мыслить свойство, не обращаясь к субъекту, не соединяя их связью, которую передает глагол "принадлежать". Но это предполагает некие очертания, которые нужно уточнить. Мы находимся в системе, которая главным образом предполагает использование формы "такое же"; эта характеристика выбрана среди других. Но, с другой стороны, мы не стоим перед набором черт, как предлагает феноменизм; всегда существует нечто трансцендентное по отношению к нему. Но не является ли оно функцией самой позиции, которую я занимаю перед этим "нечто"? Не является ли оно проекцией? Это мне еще пока не ясно; нужно довести все это до конца.
Думать о ком-то другом — значит каким-то образом утверждать себя перед лицом другого. Точнее, другой находится на другой стороне пропасти; он не связан со мной. Но это — пропасть, это — пустота; я могу создать его, лишь остановившись и обведя вокруг себя круг, или, если угодно, очертив себя.
Вот что я вижу. Мир себя самого и другого есть мир отождествляемого. Поскольку я в нем заключен, я сам себя окружаю зоной пустоты. И только при условии пребывания в этой зоне я могу мыслить самого себя в категориях обладания. Идентифицировать в действительности означает признать, что некто или нечто обладают или не обладают определенным свойством, и наоборот, это свойство связано с возможностью идентификации.
Все это имеет смысл и представляет интерес, только если мы стремимся мыслить нечто высшее по отношению к миру себя самого и другого; нечто высшее, принадлежащее как таковое онтологии. Вот здесь-то и начинаются трудности.
Что очевидно, так это то, что вопрос "что есть я?" не соответствует уровню обладания. На этот вопрос я не могу ответить самостоятельно (см. мои записи за март).
II. ОЧЕРК ФЕНОМЕНОЛОГИИ ОБЛАДАНИЯ
(Сообщение, сделанное в ноябре 1933 г. в философском обществе г. Лиона.)
Вначале я бы хотел отметить взрывной характер того сообщения, которое я собираюсь сделать. Оно содержит в себе зачатки некоей философии, которую я в значительной части пока только предчувствую и которую, если это возможно, дальше будут развивать другие, в формах, детально для меня непредставимых. Впрочем, может быть, некоторые подходы, которые я намереваюсь обрисовать, ведут в тупик.
Сейчас я намерен показать, каким образом я начал заниматься проблемой обладания. Эта основная идея каким-то образом возникла на почве более конкретных исследований, и мне неизбежно придется сослаться на них вначале. Я прошу прощения за то, что цитирую здесь самого себя, но это самый простой способ ввести вас в курс моих интересов, уступивших место исследованиям, которые выглядят столь абстрактными.
Уже в "Метафизическом дневнике" я поставил проблему, которая вначале казалась чисто психологической. Я задался вопросом: как возможно идентифицировать чувство, которое испытывается впервые? Опыт показывает, что такая идентификация часто очень затруднительна (любовь может принимать формы, приводящие в замешательство, которые не позволяют тому, кто ее испытывает, догадаться о ее подлинной природе). Я констатировал, что такая идентификация тогда более осуществима, когда чувство может быть уподоблено чему-то, что я имею. Оно тогда очищается, определяется, интеллектуализируется. Таким образом я могу сформировать определенную идею и сопоставить ее с предварительным понятием, которое я имею об этом чувстве вообще (конечно, я сейчас схематизирую ход своих мыслей, но это неважно). Напротив, чем меньше это чувство очерчено, а, следовательно, различимо, тем меньше уверенности, что я могу его распознать. Но не существует ли, в противоположность этим чувствам, которыми я обладаю, нечто вроде эмоционального ответвления, которое до такой степени неотделимо от того, что есть я, что я не могу реально его себе противопоставить (и, следовательно, помыслить)?Таким образом, я вижу если не глубокое различие, то, по крайней мере, нечто вроде гаммы нюансов, едва ощутимый переход между чувством, что я имею, и чувством, что я есть. Отсюда запись, сделанная 16 марта 1923 года: "В сущности, все сводится к различию между. тем, что мы имеем и тем, что мы есть. Однако чрезвычайно трудно выразить это в концептуальной форме, но это необходимо сделать. То, что мы имеем, очевидно, представляет собой нечто внешнее по отношению к себе. Это внешнее, однако, не абсолютно. В принципе, то, что мы имеем — это вещи (или то, что можно уподобить вещам, и в той степени, в какой возможно такое уподобление). Я могу обладать в прямом смысле слова лишь такой вещью, которая существует в известной мерё независимо от меня. Иными словами, то, что я имею, соединяется со мной; более того, факт принадлежности мне прибавляется к другим свойствам, качествам и т. д., характеризующим ту вещь, которой я обладаю. Я имею только то, чем могу некоторым образом и в известных пределах располагать, иначе говоря, только если я могу рассматриваться как некая сила, как существо, обеспеченное властью. Я могу передавать только то, что я имею". И отсюда я перехожу к совершенно неясному вопросу — действительно ли существует непередаваемое и каким образом его можно мыслить.
Читать дальше