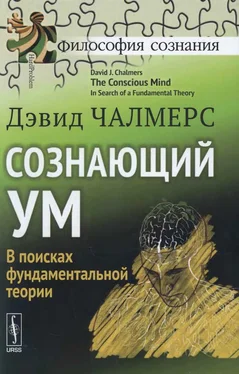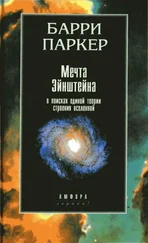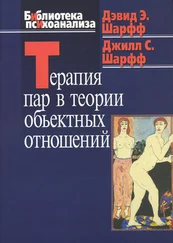Другой причиной, по которой кто-то может отвергнуть идею сознающего термостата, является то, что он не может найти в этой системе какого-либо места для сознания. Она кажется слишком простой, и возникает ощущение, что сознание не может играть в ней никакой роли. Но такая реакция свидетельствует о том, что уроки нередуктивной позиции остались неусвоенными: при тщательном исследовании нам никогда не удастся найти сознание в системе, и мы всегда сможем понять ее процессы, не отсылая к сознанию. Если сознание не является чем-то логически супервентным, нам не следует ожидать того, что мы найдем «место» для сознания в организации той или иной системы; сознание совершенно отличается от свойств системы, связанных с тем, как она обрабатывает свои данные.
Может быть и так, что кто-то не захочет признавать возможность сознающих термостатов просто потому, что мы очень хорошо понимаем термостаты. Мы знаем все о процессах обработки их данных, и кажется, что здесь нет оснований задействовать сознание. Но в действительности в этом плане термостаты не отличаются от мозгов. Даже если мы будем в совершенстве понимать процессы обработки данных, протекающие в мозге, мы, по-видимому, все равно не получим оснований задействовать сознание. Единственное различие состоит в том, что в настоящий момент то, что происходит в мозге, достаточно таинственно для того, чтобы кто-то мог соблазниться предположением, что сознание каким-то образом «локализовано» в тех мозговых процессах, относительно которых у нас еще нет понимания. Но, как я пытался показать, даже понимание этих процессов само по себе не привнесет в имеющуюся у нас картину сознания; так что и в этом случае мозг и термостаты вновь оказываются в одной связке.
Кто-то может быть обеспокоен тем обстоятельством, что он сам мог бы сделать термостат, не вкладывая в него сознания. Но это, разумеется, справедливо и по отношению к мозгу, по крайней мере в принципе. Когда мы создаем мозг (скажем, при размножении или развитии), сознание оказывается бесплатным приложением к нему; то же самое будет верным и для термостата. Не следует ожидать, что речь пойдет о размещении сознания как физического компонента системы! Кто-то может беспокоиться из-за того, что термостат не является живым; но трудно понять, почему это различие должно иметь такое уж принципиальное значение. Лишенный тела кремниевый мозг, подобный тому, о котором мы говорили в предыдущей главе, судя по всему, не может считаться живым, но мы видели, что он мог бы обладать сознанием. И если аргументы, приведенные в предыдущей главе, верны, то отсутствие в составе термостата биологических компонентов не имеет значения в принципе.
Некое интуитивное сопротивление может быть обусловлено тем фактом, что в термостате, по-видимому, нет места для кого-то или чего-то, могущего обладать опытными переживаниями: где в термостате мог бы размещаться субъект ? Но нам не следует искать на роль субъекта в физических системах какого-то гомункула. Субъект есть система в целом или, точнее, он связан с системой подобно тому, как он связан с мозгом. Найти оптимальную формулировку здесь непросто. Мы не стали бы утверждать, что мой мозг , строго говоря, наделен переживаниями, но сказали бы, что эти переживания имеются у меня. Но как бы мы ни осмыслили это отношение, можно будет перенести это и на термостаты: строго говоря, лучше, вероятно, говорить не о наличии у термостата переживаний (хотя я и дальше буду выражаться так в неформальных рассуждениях), а о том, что переживания связаны с термостатом. Мы не найдем субъекта «внутри» термостата, но мы не найдем никакого субъекта и внутри мозга.
Вернемся теперь к позитивным моментам, свидетельствующим о том, что простые системы наделены опытными переживаниями: утверждая нечто подобное, мы избегаем необходимости «включения» сознания на каком-то уровне сложности. В представлении о том, что система, содержащая п элементов, не могла бы обладать сознанием, а система, содержащая п-b 1 элементов, могла бы, есть нечто странное. И мы не можем уходить от решения так, как мы могли бы сделать это, говоря о том, в какой момент кто-то становится «лысым»: в последнем случае, похоже, имеется некая степень семантической неопределенности, но гораздо менее правдоподобным выглядит утверждение, что наличие у системы сознания тоже может быть чем-то неопределенным. (В особенности это справедливо тогда, когда мы занимаем нередуктивную позицию, в соответствии с которой мы не можем эксплицировать факты об опыте в терминах более фундаментальных фактов, подобно тому, как мы эксплицируем неопределенности, связанные с облысением в терминах определенных фактов о количестве волос на голове.) Хотя дело и могло бы обстоять таким образом, что сознание включалось бы в какой-то определенный момент, любой такой конкретный момент кажется произвольным, и поэтому теория, избегающая решения этого вопроса, обретает определенного рода простоту.
Читать дальше