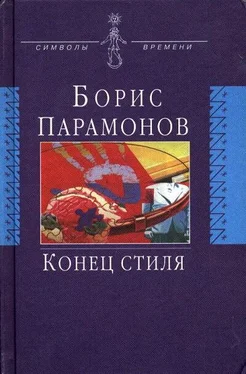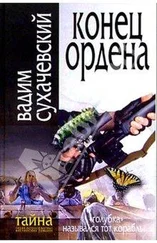«Лжа разъедает душу», — говаривал чеховский Редька. Не всегда и не у всех. Напрашивается парадокс: иногда она душу закаливает. Конечно, для этого необходимо одно отрицательное условие: не мучиться чувством вины, не отождествлять себя со своим грехом. В одной пьесе Ибсена есть слова о «дюжей совести». Вот это и есть то, что Ницше называл моралью господ. Но это же — и высокая традиция, и повседневная практика евреев. Иаков семь лет проработал на Лавана, но это не значит, что он предал Рахиль: для нее и работал.
Сравним Эренбурга хотя бы с Константином Фединым. Ведь первый славословий товарищу Сталину написал куда больше, чем второй. Собственно, оскоромился Федин в этом смысле, кажется, всего один раз, когда написал эпилог к роману «Необыкновенное лето», прославляющий полководческий гений вождя. Но ведь ясно, что здесь не столько о Сталине, сколько о Льве Толстом речь идет, Федин подражает историософскому эпилогу «Войны и мира», как всегда, играет в классика. В какое-то прирожденное его злодейство не верится: судя по письму Твардовского, еще в 1954 году он вел себя вполне прилично. «Скурвился» он как раз тогда, когда жить действительно стало лучше и веселей. Очевидно, что он не выдержал всего лишь какого-нибудь одного прегрешения, сломался, ушел в грех, как в невроз. И лицо корректного русского писателя стало лицом порочного волка.
Случай Федина очень подходящ для наших целей, и мы его на том не оставим. Вспомним еще раз фединскую игру в классики. Классика из него не вышло, и, по-видимому, он был уже готов простить себе это, найдя приличное объяснение («эпоха не та» или что-нибудь в этом роде), как вдруг перед ним, живой, во плоти, с потертым портфелем подмышкой и, по случаю жаркой погоды, в рубашке «апаш», предстал русский классик. И тогда в Федине заговорил Сальери. Интересно, что в Эренбурге при всем старании нельзя обнаружить никаких следов сальерианского комплекса. Возьмем его юношеские поэтические опыты, его попытки стать поэтом. В общем, он шел в стихах в интересном направлении: урбанистический кубизм, культ безобразного, ломка метра и т. д. Не хватало только таланта, — при последнем условии он мог бы сделать в поэзии то, что сделал молодой Маяковский. И вот в семнадцатом году в Москве он встречается с Маяковским. Оба были достаточно молоды, а когда же такую ревность чувствовать, как не в молодости. Эренбург — не озлобился, не позавидовал, он написал о Маяковском восторженную статью и включил ее в «Портреты русских поэтов». Я настаиваю на том, что это у Эренбурга не личное достоинство, а национальное качество. Чувства зависти, обиды, униженность, стремление отомстить, одним словом то, что Ницше назвал ressentiment, — характеристика лакейского, смердяковского сознания, мораль рабов. А евреям близка мораль господ, мы это видели даже на социальных низах, у каких-нибудь брацлавских хасидов. Отождествление еврейства с ressentiment-моралью — ошибка Ницше. Естественная реакция евреев на высокое — не снизить, не забросать грязью, не уничтожить, а включить в себя, ассимилировать. Евреи любят первый класс — господская черта. Можно сказать, что не ассимиляция миром евреев происходит, а ассимиляция человеческого гения еврейством. Инстинкт еврейства, так сказать, — женить гения на еврейке, и эта еврейка отнюдь не всегда — Юдифь!
Нельзя конечно сказать, что ressentiment чужд еврейству. Ничто человеческое ему не чуждо. Куда же в таком случае девать пресловутых еврейских комиссаров! Гришка Зиновьев отвратителен. Ягода, в предбаннике стреляющий по иконам, ужасен, да и родственник его, «вождь РАППа товарищ Авербах», не многим лучше. В революции было сколько угодно еврейских Смердяковых. Но секрет еврейства в том, что оно необыкновенно быстро облагораживается, дети Зиновьева и Ягоды, если они у них остались, делаются почтенными докторами наук, выбирают чистую работу. Им нужен трамплин, будь даже это предбанник чекистского ада, дальше начинается свободный полет — и обязательное мягкое приземление. Секрет этих успехов прост: евреи не казнятся «грехами отцов». Если внизу у них все-таки аффекты мести, то наверху — не «кающееся дворянство», как у русских, и не «больная совесть», а дюжая совесть. Жизнь Светланы Алиллуевой — непрерывный побег от отца, ей мало девической фамилии матери, фамилий трех или четырех мужей (для этого — все ее замужества), теперь она сама, самостийно меняет имя, теперь она Лана Питерс. Но я уверен, что внучка какого-нибудь Мехлиса спокойно гуляет по Москве или по Тель-Авиву и со спокойной совестью сотрудничает в «русскоязычных» журналах одной из означенных столиц.
Читать дальше